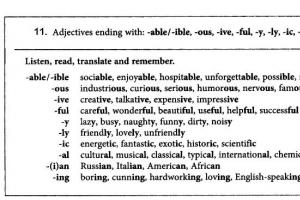Цинковые мальчики автор. Цинковые мальчики. Цитаты из книги «Цинковые мальчики» Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич
Цинковые мальчики
Вечный человек с ружьём
…Лежит на земле человек, убитый другим человеком… Не зверем, не стихией, не роком. Другим человеком… В Югославии, Афганистане, Таджикистане… В Чечне…
Иногда мелькает страшная мысль о войне и её тайном смысле. Кажется, что все сошли с ума, оглядываешься – мир вокруг вроде бы нормальный: люди смотрят телевизор, спешат на работу, едят, курят, чинят обувь, злословят, сидят на концертах. В нашем сегодняшнем мире ненормален, странен не тот, кто надел на себя автомат, а другой, тот, кто, как ребёнок, спрашивает, не понимая: почему же снова лежит на земле человек, убитый другим человеком?
Помните, у Пушкина: «Люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». Это XIX век.
«Даже уничтожив запасы всеобщей смерти, люди сохранят знание, как их снова создать, хода – к незнанию, неумению убить всех и вся – уже нет». Это у Алеся Адамовича. Это XX век.
Искусство веками возвеличивало бога Марса – бога войны. И теперь никак не содрать с него кровавых одежд…
Вот один из ответов, почему я пишу о войне.
Вспоминается, как у нас в деревне на Радуницу (день поминовения) уткнулась коленками в заросший холмик старушка – без слов, без слез, даже молитвы не читала. «Отойди девочка, не надо на это смотреть, – отвели меня в сторону деревенские женщины. – Не надо тебе знать, никому не надо». Но в деревне не бывает тайн, деревня живёт вместе. Потом я все-таки узнала: во время партизанской блокады, когда вся деревня пряталась от карателей в лесу, в болотах, пухла от голода, умирала от страха, была со всеми эта женщина с тремя маленькими девочками. В один из дней стало очевидным: или умрут все четверо, или кто-то спасётся. Соседи ночью слышали, как самая меньшая девочка просила: «Мамочка, ты меня не топи, я у тебя есточки просить не буду…»
Оставались зарубки в памяти…
В одной из моих поездок… Маленькая женщина, кутавшаяся летом в пуховую шаль и быстро-быстро выговаривающая, вышептывающая: «Не хочу говорить, не хочу вспоминать, я очень долго после войны, десятки лет, не могла ходить в мясные магазины, видеть разрезанное мясо, особенно куриное, оно напоминало мне человеческое, ничего из красной ткани шить не могла, я столько крови видела, не хочу вспоминать, не могу…»
Я не любила читать книги о войне, а написала три книги. О войне. Почему? Живя среди смерти (и разговоров, и воспоминаний), невольно гипнотизируешься пределом: где он, что за ним. И что такое человек, сколько человека в человеке – вопросы, на которые я ищу ответы в своих книгах. И, как ответил один из героев «Цинковых мальчиков»: «Человека в человеке немного, вот что я понял на войне, в афганских скалах». А другой, уже старый человек, в сорок пятом расписавшийся на поверженном рейхстаге, мне написал: «На войне человек ниже человека; и тот, кто убивает справедливо, и тот, кто убивает несправедливо. Все это одинаково похоже на обыкновенное убийство». Я с ним согласна, для меня уже невозможно написать о том, как одни люди героически убивают других… Люди убивают людей…
Но наше зрение устроено таким образом, что ещё до сих пор, когда мы говорим или пишем о войне, то для нас это прежде всего образ Великой Отечественной, солдата сорок пятого. Нас так долго учили любить человека с ружьём… И мы его любили. Но после Афганистана и Чечни война – уже что-то другое. Что-то такое, что для меня, например, поставило под сомнение многое из того, что написано (и мной тоже). Все-таки мы смотрели на человеческую природу глазами системы, а не художника…
Война – это тяжёлая работа, постоянное убийство, человек все время вертится возле смерти. Но проходит время, десятки лет, и он вспоминает только о тяжёлой работе: как не спали по трое – четверо суток, как таскали все на себе вместо лошади, как плавились без воды в песках или вмерзали в лёд, а об убийстве никто не говорит. Почему? У войны кроме смерти есть множество других лиц, и это помогает стереть главное, потаённое – мысль об убийстве. А её легко спрятать в мысль о смерти, о героической гибели. Отличие смерти от убийства – это принципиально. В нашем же сознании это соединено.
И я вспоминаю старую крестьянку, рассказывающую, как девочкой она сидела у окна и увидела, как в их саду молодой партизан бил наганом по голове старого мельника. Тот не упал, а сел на зимнюю землю, с головой, рассечённой, как капуста.
«И я тогда обожеволила, сошла с ума, – говорила и плакала она. – Меня долго мама с папой лечили, по знахарям водили. Как увижу молодого парня, кричу, в лихорадке бьюсь, вижу ту голову старого мельника, рассечённую, как капуста. Так замуж и не вышла… Я боялась мужчин, особенно молодых…»
Тут же давний рассказ партизанки: сожгли их деревню, её родителей – живыми, в деревянной церкви, и она ходила смотреть, как партизаны убивали пленных немцев, полицаев. До сих пор в памяти её безумный шёпот: «У них глаза вылазили из орбит, лопались; их закалывали шомполами. Я смотрела, и мне тогда становилось легче».
На войне человек познает о себе такое, о чем бы никогда не догадался в других условиях. Ему хочется убивать, нравится – почему? Это называется инстинктом войны, ненависти, разрушения. Вот этого биологического человека мы вообще не знаем, его не хватает в нашей литературе. Мы недооценили это в себе, слишком уверовав в силу слова и идеи. Добавим ещё, что ни один рассказ о войне, даже предельно честный, не сравнится с самой действительностью. Она ещё страшнее.
Сегодня мы живём в совершенно ином мире, не в том, что был, когда я писала свои книги о войне, и потому осмысливается все иначе. Нет, не придумывается, а передумывается. Можно ли назвать нормальной солдатскую жизнь в казарме, исходя из божественного замысла? От трагически упрощённого мира, в котором мы жили, мы возвращаемся к множественности вдруг обнаружившихся связей, и я уже не могу давать ясные ответы – их нет.
Почему же я пишу о войне?
Нашим улицам с их новыми вывесками легче поменяться, чем нашим душам. Мы сегодня не разговариваем, мы кричим. Каждый кричит о своём. А с криком лишь уничтожают и разрушают. Стреляют. А я прихожу к такому человеку и хочу восстановить правду того, прошедшего дня… Когда он убивал или его убивали… У меня есть пример. Там, в Афганистане, парень мне кричал: «Что ты, женщина, можешь понять о войне? Пишущая барышня! Разве люди так умирают на войне, как в книгах и в кино? Там они умирают красиво, а у меня вчера друга убили, пуля попала в голову. Он ещё метров десять бежал и ловил свои мозги… Ты так напишешь?» А через семь лет этот же парень – он теперь удачливый бизнесмен, любит рассказывать об Афгане – позвонил мне: «Зачем твои книги? Они слишком страшные». Это уже был другой человек, не тот, которого я встретила среди смерти и который не хотел умирать в двадцать лет…
Поистине человек меняет душу и не узнает потом сам себя. И рассказ как бы об одной жизни, судьбе – это рассказ о многих человеках, которые почему-то называются одним именем. То, чем я занимаюсь уже двадцать лет, это документ в форме искусства. Но чем больше я с ним работаю, тем больше у меня сомнений. Единственный документ, документ, так сказать, в чистом виде, который не внушает мне недоверия, – это паспорт или трамвайный билет. Но что они могут рассказать через сто или двести лет (дальше нынче и заглядывать нет уверенности) о нашем времени и о нас? Только о том, что у нас была плохая полиграфия… Все остальное, что нам известно под именем документа, – версии. Это чья-то правда, чья-то страсть, чьи-то предрассудки, чья-то ложь, чья-то жизнь.
В суде над «Цинковыми мальчиками», о котором читатель тоже прочтёт в этой книге, документ вплотную, врукопашную столкнулся с массовым сознанием. Тогда я ещё раз поняла, что не дай Бог, если бы документы правили современники, если бы только они одни имели на них право. Если бы тогда, тридцать – пятьдесят лет назад, они переписали «Архипелаг ГУЛаг», Шаламова, Гроссмана… Альбер Камю говорил: «Правда таинственна и неуловима, и её каждый раз приходится завоёвывать заново». Завоёвывать, в смысле – постигать. Матери погибших в Афганистане сыновей приходили в суд с портретами своих детей, с их медалями и орденами. Они плакали и кричали: «Люди, посмотрите, какие они молодые, какие они красивые, наши мальчики, а она пишет, что они там убивали!» А мне матери говорили: «Нам не нужна твоя правда, у нас своя правда».
Светлана Алексиевич
Цинковые мальчики
Вечный человек с ружьём
…Лежит на земле человек, убитый другим человеком… Не зверем, не стихией, не роком. Другим человеком… В Югославии, Афганистане, Таджикистане… В Чечне…
Иногда мелькает страшная мысль о войне и её тайном смысле. Кажется, что все сошли с ума, оглядываешься - мир вокруг вроде бы нормальный: люди смотрят телевизор, спешат на работу, едят, курят, чинят обувь, злословят, сидят на концертах. В нашем сегодняшнем мире ненормален, странен не тот, кто надел на себя автомат, а другой, тот, кто, как ребёнок, спрашивает, не понимая: почему же снова лежит на земле человек, убитый другим человеком?
Помните, у Пушкина: «Люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». Это XIX век.
«Даже уничтожив запасы всеобщей смерти, люди сохранят знание, как их снова создать, хода - к незнанию, неумению убить всех и вся - уже нет». Это у Алеся Адамовича. Это XX век.
Искусство веками возвеличивало бога Марса - бога войны. И теперь никак не содрать с него кровавых одежд…
Вот один из ответов, почему я пишу о войне.
Вспоминается, как у нас в деревне на Радуницу (день поминовения) уткнулась коленками в заросший холмик старушка - без слов, без слез, даже молитвы не читала. «Отойди девочка, не надо на это смотреть, - отвели меня в сторону деревенские женщины. - Не надо тебе знать, никому не надо». Но в деревне не бывает тайн, деревня живёт вместе. Потом я все-таки узнала: во время партизанской блокады, когда вся деревня пряталась от карателей в лесу, в болотах, пухла от голода, умирала от страха, была со всеми эта женщина с тремя маленькими девочками. В один из дней стало очевидным: или умрут все четверо, или кто-то спасётся. Соседи ночью слышали, как самая меньшая девочка просила: «Мамочка, ты меня не топи, я у тебя есточки просить не буду…»
Оставались зарубки в памяти…
В одной из моих поездок… Маленькая женщина, кутавшаяся летом в пуховую шаль и быстро-быстро выговаривающая, вышептывающая: «Не хочу говорить, не хочу вспоминать, я очень долго после войны, десятки лет, не могла ходить в мясные магазины, видеть разрезанное мясо, особенно куриное, оно напоминало мне человеческое, ничего из красной ткани шить не могла, я столько крови видела, не хочу вспоминать, не могу…»
Я не любила читать книги о войне, а написала три книги. О войне. Почему? Живя среди смерти (и разговоров, и воспоминаний), невольно гипнотизируешься пределом: где он, что за ним. И что такое человек, сколько человека в человеке - вопросы, на которые я ищу ответы в своих книгах. И, как ответил один из героев «Цинковых мальчиков»: «Человека в человеке немного, вот что я понял на войне, в афганских скалах». А другой, уже старый человек, в сорок пятом расписавшийся на поверженном рейхстаге, мне написал: «На войне человек ниже человека; и тот, кто убивает справедливо, и тот, кто убивает несправедливо. Все это одинаково похоже на обыкновенное убийство». Я с ним согласна, для меня уже невозможно написать о том, как одни люди героически убивают других… Люди убивают людей…
Но наше зрение устроено таким образом, что ещё до сих пор, когда мы говорим или пишем о войне, то для нас это прежде всего образ Великой Отечественной, солдата сорок пятого. Нас так долго учили любить человека с ружьём… И мы его любили. Но после Афганистана и Чечни война - уже что-то другое. Что-то такое, что для меня, например, поставило под сомнение многое из того, что написано (и мной тоже). Все-таки мы смотрели на человеческую природу глазами системы, а не художника…
Война - это тяжёлая работа, постоянное убийство, человек все время вертится возле смерти. Но проходит время, десятки лет, и он вспоминает только о тяжёлой работе: как не спали по трое-четверо суток, как таскали все на себе вместо лошади, как плавились без воды в песках или вмерзали в лёд, а об убийстве никто не говорит. Почему? У войны кроме смерти есть множество других лиц, и это помогает стереть главное, потаённое - мысль об убийстве. А её легко спрятать в мысль о смерти, о героической гибели. Отличие смерти от убийства - это принципиально. В нашем же сознании это соединено.
Двадцатого января тысяча восемьсот первого года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Вскоре тридцать тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в Казахские степи…
В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. М.: Мысль, 1988, с. 475
В декабре 1979 г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Война продолжалась с 1979 по 1989 г. Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ограниченного контингента советских войск. Общие людские потери Советских Вооруженных сил составили 15051 человек. Пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих. По состоянию на 2000 г. в числе не вернувшихся из плена и не разысканных оставалось 287 человек…
Пролог
– Я иду одна… Теперь мне долго предстоит идти одной…
Он убил человека… Мой сын… Кухонным топориком, я им мясо разделывала. Вернулся с войны и тут убил… Принес и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила… Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп… По кускам… Звонит мне подруга:
– Читала? Профессиональное убийство… Афганский почерк…
Сын был дома, лежал на диване, книжку читал. Я еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него… Материнское сердце…
Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинаю об этом рассказывать, слышу собачий лай. Как собаки бегут… Там в тюрьме, где он сейчас сидит, большие черные овчарки… И люди все в черном, только в черном… Вернусь в Минск, иду по улице, мимо хлебного магазина, детского садика, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай. Оглушающий лай. Я от него слепну… Один раз чуть под машину не попала…
Я готова ходить к могильному холмику своего сына… Готова рядом там с ним лежать… Но я не знаю… Я не знаю, как с этим мне жить… Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал… Вы не слышите? Ничего не слышите… Нет?!
Сейчас я не знаю, какой он, мой сын. Какого я его получу через пятнадцать лет? Ему пятнадцать лет строгого режима дали… Как я его воспитывала? Он увлекался бальными танцами… Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили. Книжки вместе читали… (Плачет.) Это Афганистан отнял у меня сына…
…Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолет такой-то… Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: «Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!» – И потеряла сознание. В аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зеленая. Не верил, что вернулся… Но радости у него на лице не было…
Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил ее к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали. И он… Это я потом поняла.
На границе таможенники «срезали» у него плавки импортные. Американские. Не положено… Так что он приехал без белья. Вез для меня халат, мне в тот год исполнилось сорок лет, халат у него забрали. Вез бабушке платок – тоже забрали. Он приехал только с цветами. С гладиолусами. Но радости у него на лице не было.
Утром встает еще нормальный: «Мамка! Мамка!» К вечеру лицо темнеет, глаза тяжелые… Не опишу вам… Сначала не пил ни капли… Сидит и в стенку смотрит. Сорвется с дивана, за куртку…
Стану в дверях:
– Ты куда, Валюшка?
Он на меня глянет, как в пространство. Пошел.
Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну ладно голоса друзей не узнает, но мой! Тем более «Валюшка» – только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стала примерять, смотрю: у него руки в порезах.
– Что это?
– Мелочь, мамка.
Потом уже узнала. После суда… В «учебке» вскрывал себе вены… На показательном учении он был радист, и не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета пятьдесят ведер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание. В госпитале поставили диагноз: легкое нервное потрясение. Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены. Второй раз в Афганистане… Перед тем, как им идти в рейд, проверили: рация не работала. Пропали дефицитные детали, кто-то из своих стащил… Кто? Командир обвинил его в трусости, как будто это он детали спрятал, чтобы не идти вместе со всеми. А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики… Наркотики, сигареты. Еду. Они вечно ходили голодные.
По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели.
– Мама, – спросил он меня, – а ты знаешь, что такое наркотики?
– Нет, – сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не покуривает ли?
Никаких следов. Но там они наркотики употребляли – это я знаю.
– Как там в Афганистане? – спросила однажды.
– Молчи, мамка!
Когда он уходил из дому, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит. Мне вернули другого человека… Это был не мой сын. А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка. Я хотела, чтобы он стал мужественным. Убеждала его и себя, что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой, устроила на прощание сладкий стол. Он друзей своих позвал, девочек… Помню, десять тортов купила.
Один только раз он заговорил об Афганистане. Под вечер… Заходит на кухню, я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее. Разглядывает. И сам себе говорит:
– Привозят друга с перебитым животом… Он просит, чтобы я его пристрелил… И я его пристрелил…
Пальцы в крови… От кроличьего мяса, оно свежее… Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон. Больше со мной в этот вечер ни слова.
Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите! Все рассказала… Проверяли они его, смотрели, но кроме радикулита у него ничего не нашли.
Прихожу раз домой: за столом – четверо незнакомых ребят.
– Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашел. Им ночевать негде.
– Я вам сладкий пирог сейчас испеку. Мигом. – Почему-то обрадовалась я.
Они жили у нас неделю. Не считала, но думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома пятерых незнакомых людей. Пятым был мой сын… Я не хотела слушать их разговоры, пугалась. Но в одном же доме… Нечаянно подслушала… Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее. Но это все в тайне хранится. Каким оружием лучше убивать… С какого расстояния… Потом я это вспомнила, когда всё случилось… Я потом стала думать, лихорадочно вспоминать. А до того был только страх: «Ой, – говорила я себе, – они все какие-то сумасшедшие. Все ненормальные».
Ночью… Перед тем днем… Когда он убил… Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет. И вот его мне приводят… Приводят те четыре «афганца». И бросают на грязный цементный пол. Вы понимаете, в доме цементный пол… У нас на кухне… Пол – как в тюрьме.
К этому времени он уже поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливый был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается. Пойдет учиться. Женится. Но наступит вечер… Я боялась вечера… Он сидит и тупо в стенку смотрит. Заснет в кресле… Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать. А теперь мне снится сын: он маленький и просит кушать… Он все время голодный. Руки тянет… Всегда во сне вижу его маленьким и униженным. А в жизни?! Раз в два месяца – свидание. Четыре часа разговора через стекло…
В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить. И этот лай собак… Мне снится этот лай собак. Он гонит меня отовсюду.
За мной стал ухаживать один мужчина… Цветы принес… Когда он принес мне цветы: «Отойдите от меня, – стала кричать, – я мать убийцы». Первое время я боялась кого-нибудь из знакомых встретить, в ванной закроюсь и жду, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: «Помните, тот жуткий случай… Это ее сын убил. Четвертовал человека. Афганский почерк…». Я выходила на улицу только ночью, всех ночных птиц изучила. Узнавала по голосам.
Шло следствие… Шло несколько месяцев… Он молчал. Я поехала в Москву в военный госпиталь Бурденко. Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он. Открылась им…
– Ребята, за что мой сын мог убить человека?
– Значит, было за что.
Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать… Убить… Долго их выспрашивала и поняла: мог! Спрашивала о смерти… Нет, не о смерти, а об убийстве. Но этот разговор не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие любое убийство обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили о войне как о работе, на которой надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане, и когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало, я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти? Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Разорванные… расплющенные… черепа, кости… Похороненные под землей целые школы… Классы… Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю. А они вспоминали и рассказывали о другом; какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили. Шутили: пусть бы еще где-нибудь тряхануло. Но чтобы в теплом месте, где виноград растет и делают хорошее вино… Они что – здоровые? У них нормальная психика?
«Я его мертвого ненавижу». Это он мне недавно написал. Через пять лет… Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот парень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал…
На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых – не преступник, а больной. Его надо лечить. Но тогда, это семь лет назад, тогда правды об Афганистане еще не было. Их всех называли героями. Воинами-интернационалистами. А мой сын был убийца… Потому что он сделал здесь то, что они делали там. За что им там медали и ордена давали… Почему же его одного судили? Не судили тех, кто его туда послал? Научил убивать! Я его этому не учила… (Срывается и кричит.)
Он убил человека моим кухонным топориком… А утром принес и положил его в шкафчик. Как обыкновенную ложку или вилку…
Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног… Пусть он ее ненавидит, когда напьется. Весь мир ненавидит… Пусть бросается на нее, как зверь. Она покупает ему проституток, чтобы он не сошел с ума… Сама один раз ему любовницей стала, потому что он лез на балкон, хотел выброситься с десятого этажа. Я на все согласна… Я всем матерям завидую, даже тем, у кого сыновья в могилах лежат. Я сидела бы возле холмика и была счастлива. Носила бы цветы.
Вы слышите лай собак? Они за мной бегут. Я их слышу…
Мать
Из записных книжек (на войне)
Июнь 1986 года
Я не хочу больше писать о войне… Опять жить среди «философии исчезновения» вместо «философии жизни». Собирать бесконечный опыт не-бытия. Когда закончила «У войны не женское лицо», долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь, убегала на отдыхе от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из далеких глубин рыбу, меня тошнило от ее застывших выпученных глаз. У каждого есть свой запас сил, чтобы защититься от боли – физический и психологический, мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка. Высохшей на дороге лягушки… Думалось не раз, что животные, птицы, рыбы тоже имеют право на свою историю страдания. Ее когда-нибудь напишут.
И вдруг! Если это можно назвать «вдруг». Идет седьмой год войны… Но мы ничего о ней не знаем, кроме героических телерепортажей. Время от времени нас заставляют встрепенуться привезенные издалека цинковые гробы, не вмещающиеся в пенальные размеры «хрущевок». Отгремят скорбные салюты – и снова тишина. Наша мифологическая ментальность незыблема – мы справедливые и великие. И всегда правы. Горят-догорают последние отблески идей мировой революции… Никто не замечает, что пожар уже дома. Загорелся собственный дом. Началась горбачевская перестройка. Рвемся навстречу новой жизни. Что нас самих ждет впереди? На что окажемся способны после стольких лет искусственного летаргического сна? А наши мальчики где-то далеко неизвестно за что погибают…
О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге и геополитике, о наших державных интересах и южных границах. И этому верят. Верят! Матери, еще недавно в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, в которых им вернули сыновей, выступают в школах и военных музеях, призывая других мальчиков «выполнить свой долг перед Родиной». Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас уверяют, что «ограниченный контингент» советских войск помогает братскому народу строить мосты, дороги, школы, развозить удобрения и муку по кишлакам, а советские врачи принимают роды у афганских женщин. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать.
С одним долго говорила… Я хотела услышать о мучительности этого выбора – стрелять или не стрелять? А для него тут как бы – никакой драмы. Что хорошо? Что плохо? Хорошо «во имя социализма» убить? Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом. Правда, о смерти они говорят осторожнее, чем мы. Тут сразу обнаруживается расстояние между нами.
Как одновременно переживать историю и писать о ней? И нельзя любой кусок жизни, всю экзистенциальную «грязь» взять за шиворот и втащить в книгу. В историю. Надо «проломить время» и «уловить дух».
«У существующей печали сто отражений» (В. Шекспир. Ричард III).
…На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом, рядом с ним худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулевку, копал вилкой в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсели к ним деревенские женщины, выспросили: куда, зачем, кто? Офицер сопровождал домой солдата, сошедшего с ума: «С Кабула копает, что попадет в руки, тем и копает: лопатой, вилкой, палкой, авторучкой». Мальчишка поднял голову: «Прятаться надо… Я вырою щель… У меня быстро получается. Мы называли их братскими могилами. Большую щель для всех вас выкопаю…»
Первый раз я увидела зрачки величиной с глаз…
Я стою на городском кладбище… Вокруг сотни людей. В центре – девять гробов, обшитых красным ситцем. Выступают военные. Взял слово генерал… Женщины в черном плачут. Люди молчат. Только маленькая девочка с косичками захлебывается над гробом: «Папа! Па-а-почка!! Где ты? Ты обещал мне куклу привезти. Красивую куклу! Я нарисовала тебе целый альбом домиков и цветочков… Я тебя жду…». Девочку подхватывает на руки молодой офицер и уносит к черной «Волге». Но мы еще долго слышим: «Папа! Па-а-а-почка… Любимый па-а-почка…»
Генерал выступает… Женщины в черном плачут. Мы молчим. Почему мы молчим?
Я не хочу молчать… И не могу больше писать о войне.
Сентябрь 1988 года
Ташкент. В аэропорту душно, пахнет дынями, не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Бесстрашно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят, афганские. Среди загоревшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты (мальчишки). На них никто не обращает внимания, уже привыкли. Они спят и едят тут же на полу, на старых газетах и журналах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Киев… Где их искалечили? Что они там защищали? Никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз, и пьяная нищенка подошла к одному солдатику:
– Поди сюда… Пожалею…
Он отмахнулся костылем. А она, не обидевшись, добавила еще что-то печальное и женское.
Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы. О брюшном тифе, холере, малярии и гепатите. Как в первые годы войны не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было даже мыть посуду. А еще о том, кто что привез: кто – «видик», кто магнитофон – «Шарп» или «Сони». Запомнилось, какими глазами они смотрели на красивых, отдохнувших женщин в открытых платьях…
Долго ждем военный самолет на Кабул. Говорят, что сначала загрузят технику, а потом людей. Ждет человек сто. Все – военные. Неожиданно много женщин.
Отрывки из разговоров:
– Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Последствие контузии в голову… Овсяницу, например, не слышу начисто. Записал ее на магнитофон и запускаю на полную мощность…
– Сначала стреляешь, а потом выясняешь, кто это – женщина или ребенок? У каждого свой кошмар…
– Ослик во время обстрела ложится, кончится обстрел – вскакивает.
– Кто мы в Союзе? Проститутки? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать. А мужики? Что мужики? Все пьют.
– Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался: «Возьмите им леденцов. Это же дети. Лучший подарок – конфеты».
– Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу: заплакал. Лицо как у девочки – румяное, белое. Я сначала боялась мертвых, особенно если без ног или без рук. А потом привыкла…
– Берут в плен. Отрезают конечности и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют, наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их насильно лечат. А они после госпиталя не хотят возвращаться домой.
– На таможне увидели мой пустой саквояж: «Что везешь?» – «Ничего». – «Ничего?» Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут по два-три чемодана.
В самолете мне досталось место возле привязанного цепями бронетранспортера. К счастью, майор возле меня оказался трезвым, все остальные вокруг были пьяны. Неподалеку кто-то спал на бюсте Маркса (портреты и бюсты социалистических вождей навалили без упаковок), везли не только оружие, но и набор всего необходимого для советских ритуалов. Лежали красные флаги, красные ленточки…
Вой сирены…
– Вставайте. А то проспите царство небесное. – Это уже над Кабулом.
Идем на посадку.
… Гул орудий. Патрули с автоматами и в бронежилетах требуют пропуска.
Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне. Всюду люди войны, вещи войны. Время войны.
Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в столовую, поздоровались с часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика…
Журналистов здесь называют сказочниками. Писателей тоже. В нашей писательской группе одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю у одного:
– Мне это интересно. Скажу: на Саланге был. Постреляю.
Не могу отделаться от чувства, что война – порождение мужской природы, во многом для меня непостижимое. Но будничность войны грандиозна. У Аполлинера: «Ах, как красива война».
На войне все другое: и ты, и природа, и твои мысли. Тут я поняла, что человеческая мысль может быть очень жестока.
Спрашиваю и слушаю везде: в солдатской казарме, столовой, на футбольном поле, вечером на танцах – неожиданные тут атрибуты мирной жизни:
– Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: «Первый». После боя – раненые и убитые. Все молчат… Мне снятся здесь трамваи. Как я на трамвае еду домой… Любимое воспоминание: мама печет пироги. В доме пахнет сладким тестом…
– Дружишь с хорошим парнем… А потом видишь, как его кишки на камнях висят. Начинаешь мстить.
– Ждем караван. В засаде два-три дня. Лежим в горячем песке, ходим под себя. К концу третьего дня сатанеешь. И с такой ненавистью выпускаешь первую очередь. После стрельбы, когда все кончилось, обнаружили: караван шел с бананами и джемом. На всю жизнь сладкого наелись…
– Взяли в плен «духов»… Допытываемся: «Где военные склады?» Молчат. Подняли двоих на вертолетах: «Где? Покажи». Молчат. Сбросили одного на скалы…
– Заниматься любовью на войне и после войны – это не одно и то же… На войне все как в первый раз …
– «Град» стреляет… Мины летят… А над всем этим стоит: жить! жить! жить! Но ты ничего не знаешь и не хочешь знать о страданиях другой стороны. Жить – и все. Жить!
Написать (рассказать) о самом себе всю правду есть, по замечанию Пушкина, невозможность физическая.
На войне человека спасает то, что сознание отвлекается, рассеивается. Но смерть вокруг нелепая, случайная. Без высших смыслов.
…На танке красной краской: «Отомстим за Малкина».
Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребенком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери.
Проезжали мимо убитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мертвая глина недавнего человеческого жилища была страшнее темноты, из которой могли выстрелить.
В госпитале я положила плюшевого мишку на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь, обеих рук у него не было. «Твои русские стреляли, – перевели мне слова его матери. – А у тебя есть дети? Кто? Мальчик или девочка?» Я так и не поняла, чего больше в ее словах – ужаса или прощения?
Рассказывают о жестокости, с которой моджахеды расправляются с нашими пленными. Похоже на средневековье. Здесь и в самом деле другое время, календари показывают четырнадцатый век.
У Лермонтова, в «Герое нашего времени» Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав», – хотя с точки зрения русского поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную русскую черту – умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и «по-ихнему».
А сейчас…
Изо дня в день вижу, как человек скользит вниз. И редко – вверх.
У Достоевского Иван Карамазов замечает: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».
Да, я подозреваю: мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом знать. Но на любой войне, кто бы ее и во имя чего ни вел – Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, – люди убивают друг друга. Это убийство, но об этом у нас не принято задумываться, даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о военно-патриотическом воспитании. Хотя почему я удивляюсь? Все понятно – военный социализм, военная страна, военное мышление.
Нельзя так испытывать человека. Человек не выдерживает таких испытаний. В медицине это называется «острым опытом». Опытом на живом.
Вечером в солдатском общежитии напротив гостиницы включили магнитофон. Я тоже слушала «афганские» песни. Детские, еще не сформировавшиеся голоса хрипели под Высоцкого: «Солнце упало в кишлак, как огромная бомба», «Мне не надо славы. Нам бы жить – и вся награда», «Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают?», «Вот уже и лица стал я забывать», «Афганистан, ты больше, чем наш долг. Ты – наше мирозданье», «Как большие птицы, скачут одноногие у моря», «Мертвый, он уже ничей. Нет уже ненависти на его лице».
Ночью мне снился сон: наши солдаты уезжают в Союз, я – среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке, он без языка, немой. После плена. Из-под солдатского кителя торчит госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только свое имя пишет: «Ванечка… Ванечка…». Так ясно различаю его имя – Ванечка… Лицом похож на паренька, с которым днем беседовала, он все повторял: «Меня мама дома ждет».
Проезжали по замершим улочкам Кабула, мимо знакомых плакатов в центре города: «Светлое будущее – коммунизм», «Кабул – город мира», «Народ и партия едины». Наши плакаты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой…
Познакомилась с кинооператорами из Москвы.
Они снимали загрузку «черного тюльпана». Не поднимая глаз, рассказывают, что мертвых одевают в старую военную форму сороковых годов, еще с галифе, иногда кладут, не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди… «В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет».
Кто мне поверит, если я об этом напишу?
Видела бой…
Три солдата убиты… Вечером все ужинали, о бое и о мертвых не вспоминали, хотя они лежали где-то рядом.
Право человека не убивать. Не учиться убивать. Оно ни в одной конституции не записано.
Война – мир, а не событие… Все здесь другое: и пейзаж, и человек, и слова. Запоминается театральная часть войны: разворачивается танк, звучат команды… Светящиеся пути пуль в темноте…
Думать о смерти – как думать о будущем. Что-то происходит со временем, когда думаешь о смерти и видишь ее. Рядом со страхом смерти – притягательность смерти…
Ничего не надо придумывать. Отрывки великих книг всюду. В каждом.
В рассказах (нередко!) поражает агрессивная наивность наших мальчиков. Недавних советских десятиклассников. А я хочу от них добиться диалога человека с человеком в себе.
А все-таки? На каком языке мы говорим сами с собой, с другими? Мне нравится язык разговорной речи, он ничем не обременен, выпущен на волю. Все гуляет и празднует: синтаксис, интонация, акценты, и – восстанавливается в точности чувство. Я слежу за чувством, а не за событием. Как развивались наши чувства, а не события. Может быть, то что я делаю, похоже на работу историка, но я историк бесследного. Что происходит с большими событиями? Они перекочевывают в историю, а вот маленькие, но главные для маленького человека, исчезают бесследно. Сегодня один мальчик (из-за своей хрупкости и болезненного вида мало похожий на солдата) рассказывал, как непривычно и в то же время азартно убивать вместе. И как страшно расстреливать.
Разве это останется в истории? С отчаянием занимаюсь (от книги к книге) одной и той же работой – уменьшаю историю до человека.
Думала о невозможности писать книгу о войне на войне. Мешают жалость, ненависть, физическая боль, дружба… И письмо из дома, после которого так хочется жить… Рассказывают, что когда убивают, стараются не смотреть в глаза даже верблюду. Тут атеистов нет. И все суеверны.
Меня упрекают (особенно офицеры, солдаты реже), что я, мол, сама не стреляла и меня не брали на мушку – как же я могу написать о войне? А, может, это и хорошо, что я не стреляла?
Где тот человек, которому сама мысль о войне приносит страдание? Я его не нахожу. Но вчера возле штаба лежала мертвая незнакомая птица. И странно… Военные подходили к ней, пытались угадать – кто это? Жалели.
Есть какое-то вдохновение на мертвых лицах… Никак не могу привыкнуть и к безумию обыкновенного на войне – вода, сигареты, хлеб… Особенно когда мы уходим из гарнизона и поднимаемся в горы. Там человек один на один с природой и случаем. Пролетит пуля мимо или не пролетит? Кто выстрелит первым – ты или он? Там начинаешь видеть человека из природы, а не из общества.
А в Союзе по телевизору показывают, как сажают аллеи дружбы, которых никто из нас здесь не встречал и не сажал…
Достоевский в «Бесах»: «Убеждение и человек – это, кажется, две вещи во многом различные… Все виноваты… если бы в этом все убедились!». И у него же такая мысль, что человечество знает о себе больше, гораздо больше, чем оно успело зафиксировать в литературе, в науке. Он говорил, что это мысль не его, а Вл. Соловьева.
Если бы я не читала Достоевского, я была бы в большем отчаянии…
Где-то далеко работает установка «Град». Жутко даже на расстоянии.
После великих войн ХХ века и массовых смертей, чтобы писать о современных (маленьких) войнах, таких как афганская, нужны другие этические и метафизические позиции. Должно быть востребовано маленькое, личное и отдельное. Один человек. Для кого-то единственный. Не как государство относится к нему, а кто он для матери, для жены. Для ребенка. Как нам вернуть себе нормальное зрение?
Мне интересно и тело, человеческое тело, как связь между природой и историей, между животным и речью. Все физические подробности важны: как меняется кровь на солнце, человек перед уходом… Жизнь немыслимо художественна сама по себе, и, как это ни жестоко звучит – особенно художественно человеческое страдание. Темная сторона искусства. Вот вчера я видела, как собирали по кусочкам ребят, подорвавшихся на противотанковой мине. Могла не пойти смотреть, но пошла, чтобы написать. Теперь пишу…
А все-таки: надо ли было идти? Я слышала, как офицеры посмеивались за моей спиной: испугается, мол, барышня. Я пошла и ничего героического в этом не было, потому что я там упала в обморок. То ли от жары, то ли от потрясения. Хочу быть честной.
Поднялась на вертолете… Сверху увидела сотни заготовленных впрок цинковых гробов, красиво и страшно блестевших на солнце…
Столкнешься с чем-нибудь подобным и сразу мысль: литература задыхается в своих границах… Копированием и фактом можно выразить только видимое глазом, а кому нужен тщательный отчет о происходящем? Нужно что-то другое… Запечатленные мгновения, вырванные из жизни…
Я вернусь отсюда свободным человекам… Я не была им, пока не увидела то, что мы делаем здесь. Было страшно и одиноко. Вернусь и не пойду больше ни в один военный музей…
Не называю в книге подлинных имен. Одни просили о тайне исповеди, другие сами хотят забыть обо всем. Забыть о том, о чем писал Толстой – что «человек текучий». В нем есть все.
А в дневнике я сохранила фамилии. Может, когда-нибудь мои герои захотят, чтобы их узнали:
Сергей Амирханян, капитан; Владимир Агапов, старший лейтенант, начальник расчета; Татьяна Белозерских, служащая; Виктория Владимировна Барташевич, мать погибшего рядового Юрия Барташевича; Дмитрий Бабкин, рядовой, оператор-наводчик; Сайя Емельяновна Бабук, мать погибшей медсестры Светланы Бабук; Мария Терентьевна Бобкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова; Олимпиада Романовна Баукова, мать погибшего рядового Александра Баукова; Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша; Виктория Семеновна Валович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Валовича; Татьяна Гайсенко, медсестра; Вадим Глушков, старший лейтенант, переводчик; Геннадий Губанов, капитан, летчик; Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Галовнева; Анатолий Деветьяров, майор, пропагандист артполка; Денис Л., рядовой гранатометчик; Тамара Довнар, жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнара; Екатерина Никитична Платицына, мать погибшего майора Александра Платицина, Владимир Ероховец, рядовой гранатометчик; Софья Григорьевна Журавлева, мать погибшего рядового Александра Журавлева; Наталья Жестовская, медсестра; Мария Онуфриевна Зильфигарова, мать погибшего рядового Олега Зильфигарова; Вадим Иванов, старший лейтенант, командир саперного взвода; Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко; Евгений Красник, рядовой, мотострелок; Константин М., военный советник; Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты; Александр Костаков, рядовой, связист; Александр Кувшинников, старший лейтенант, командир минометного взвода; Надежда Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова; Марина Киселева, служащая; Тарас Кецмур, рядовой; Петр Курбанов, майор, командир горнострелковой роты; Василий Кубик, прапорщик; Олег Лелюшенко, рядовой, гранатометчик; Александр Лелетко, рядовой; Сергей Лоскутов, военный хирург; Валерий Лисиченок, сержант связист; Александр Лавров, рядовой; Вера Лысенко, служащая; Артур Метлицкий, рядовой, разведчик; Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона, и его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант; Лидия Ефимовна Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича; Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого; Владимир Михолап, рядовой, минометчик; Максим Медведев, рядовой авианаводчик; Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолетов; Олег Л., вертолетчик; Наталья Орлова, служащая; Галина Павлова, медсестра; Владимир Панкратов, рядовой, разведчик; Виталий Руженцев, рядовой, водитель; Сергей Русак, рядовой, танкист; Михаил Сиротин, старший лейтенант, летчик; Александр Сухоруков, старший лейтенант, командир горнострелкового взвода; Тимофей Смирнов, сержант артиллерист; Валентина Кирилловна Санько, мать погибшего рядового Валентина Санько; Нина Ивановна Сидельникова, мать; Владимир Симанин, подполковник; Томас М., сержант, командир взвода пехоты; Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко; Вадим Трубин, сержант, боец спецназа; Владимир Уланов, капитан; Тамара Фадеева, врач-бактериолог; Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика; Анна Хакас, служащая; Валерий Худяков, майор; Валентина Яковлева, прапорщик, начальник секретной части…
День первый. «Ибо многие придут под именем Моим…»
Утром длинный, как автоматная очередь, звонок:
– Послушай, – начал он, не представившись, – читал твой пасквиль, если еще хоть строчку напечатаешь…
– Кто вы?
– Один из тех, о ком ты пишешь. Нас еще позовут, нам еще дадут в руки оружие, чтобы мы навели порядок. Придется вам ответить за все. Только печатайте побольше своих фамилий и не скрывайтесь за псевдонимами. Ненавижу пацифистов! Ты поднималась с полной выкладкой в горы, шла на бэтээре, когда пятьдесят градусов выше нуля? Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слышишь… Нет… Значит, не трогай! Это наше! Зачем тебе? Ты – баба, детей рожай!
– Почему не назовешь себя?
– Не трогай! Лучшего друга, он мне братом был, в целлофановом мешке с рейда принес… Отдельно голова, отдельно руки, ноги… Сдернутая кожа, как с кабана… Разделанная туша… А он на скрипке играл, стихи сочинял. Вот он бы написал, а не ты… Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она на кладбище спала, на его могиле. Зимой спала на снегу. Ты! Ты… Не трогай это! Мы были солдатами, нас туда послали. Мы выполняли приказ. Я дал военную присягу. Знамя на коленях целовал.
– «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим». Новый завет. Евангелие от Матфея.
– Умники! Через десять лет все стали умниками. Хотите чистенькими остаться? А мы, значит, черненькие… Ты даже не знаешь, как пуля летит. Автомат в руках не держала… Плевать мне на ваши Новые заветы! Я свою правду в целлофановом мешке нес… Отдельно голова, отдельно руки… Другой правды нет… – И гудок в трубке, похожий на далекий взрыв.
Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой…
Я пришел в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Когда приходишь в сознание, чувствуешь себя мерзко, кажется, что лучше не быть… Уже назад не возвращаться… Было бы комфортнее. Туман и тошнота, это даже не тошнота, а захлебывание, как будто в легких полно воды. Долго выходишь из этого состояния. Туман и тошнота… Голова болит от собственного шепота, громче шепота говорить я не мог. Позади уже был кабульский госпиталь. В Кабуле мне вскрыли череп – там была каша, удалили мелкие кусочки костей, собрали на шурупы без суставов левую руку. Первое чувство: сожаление о том, что ничего не вернется, не увижу друзей, самое обидное – не смогу залезть на турник.
Провалялся по госпиталям без пятнадцати дней два года. Восемнадцать операций, четыре – под общим наркозом. Про меня студенты курсовые писали: что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколона, а я кричу: «Давайте другую!». Нет запаха. Я его не слышу. Вытащили все из тумбочки: колбасу, огурцы, мед, конфеты – ничего не пахнет! Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошел! Пришла весна, деревья зацвели, а я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга, и, видно, какой-то центр был удален, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас, пять лет прошло, не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. Видно, оставшаяся часть мозга взяла потерянную способность на себя. Думаю, так.
В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш бэтээр подорвался на итальянской фугасной мине. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек… Это был я…
Выписали меня, дали пособие – триста рублей. За легкое ранение положено сто пятьдесят, за тяжелое – триста. Дальше живи, как хочешь. Пенсия – гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны – война. Поседел, гипертоником стал.
На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону…
Призвали меня в восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на «гражданке» о ней знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждали мой отец, соседи. Не помню, чтобы у кого-нибудь было другое мнение. Даже женщины не плакали, все это было еще далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Еще никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью, на могильных плитах писали «умер», а не «погиб». Но никто не задавался вопросом: с чего это вдруг у нас стали умирать в армии девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа? А может, апельсинами объелись? Плакали их близкие, а остальные жили, как жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей.
В витебской «учебке» не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Многие старались «откосить» любой ценой. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать: сначала обманывал – потерял комсомольский билет, билет нашелся, придумал – девушка у него рожает. Я считал его ненормальным. Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое.
Пуля натыкается на человека, ты слышишь – его не забыть, ни с чем не перепутать – характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что ему дал. Она еще дымится… Я не готов был стрелять в человека, я еще из мирной жизни. Из мира… Первый раз действуешь как во сне: бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь, после боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом… За стеной дождя… Как страшный сон видишь. От испуга просыпаешься, а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твое имя. Ты – это уже не ты, а другой человек. Думаю, так… Видно, это так… И этот другой… Этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров. Он не представляет… А он уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности и не выстирывается запах человеческого кала и крови. Воображение? Воображение притихает. Ты видишь: в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа – будто несколько часов назад тут не кричали, а смеялись, умирая. Но все вдруг обыкновенно… Просто… Появляется обостренное и волнующее возбуждение при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит… Вот такое превращение… Очень быстрое. Оно происходит со всеми.
Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остается живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. «Тут вы должны уметь две вещи – быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я», – говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Мог убить ребенка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, женщины, старики, дети. Идет колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель вылезает из кабины, поднимает капот… Пацан, лет десяти, ему ножом – в спину… Там, где сердце. Солдат лег на двигатель… Из мальчишки решето сделали… Дай в тот миг нам команду – превратили бы кишлак в пыль. Стерли. Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам же по восемнадцать-двадцать лет. К чужой смерти я привык, а собственной боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остается, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыплют, чтобы нужный вес был… Хотелось жить. Никогда так не хотелось жить, как там. Вернемся из боя, смеемся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот…
Попал фарцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный «дух». В восемь чеков оценен. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведет он двести пленных. Друг просит: «Продай одного. Семь чеков дам». – «Что ты, дорогой. Сам за девять купил».
Сто раз будет кто-нибудь рассказывать – сто раз будем смеяться. Хохотали до боли в животах из-за любого пустяка.
Лежит «дух» (так мы называли душманов-моджахедов) со словарем. Снайпер. Увидел три маленькие звездочки – старший лейтенант… Полистал словарь: за три звездочки – пятьдесят тысяч афгани. Щелк! Одна большая звезда – майор – двести тысяч афгани. Щелк! Две маленькие звездочки – прапорщик. Щелк! Ночью главарь расплачивается: за старшего лейтенанта – дать афгани, за майора – дать афгани. За… Что? Прапорщик?! Ты же нашего кормильца убил. Кто сгущенку и консервы, кто одеяла нам продаст? Повесить!
О деньгах говорили много. Больше, чем о смерти. Я ничего не привез. Осколок, который из меня вытащили, – и все. Кто-то брал… Фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры… Это на боевых, когда ходили в кишлаки. Кто-то покупал, менял… Рожок патронов за косметический набор: тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали вареные… Пуля вареная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. Ставили ведра или тазы, бросали туда патроны и кипятили два часа. Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков. Пропадали штыки от автоматов, зеркала с машин, запчасти… В том числе и награды… В дуканах брали все, даже тот мусор, который вывозился из гарнизонного городка: консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки… Мусор продавался машинами. Доллар и вода всегда найдут себе дорогу. Везде. Солдат мечтал… Было три… Три солдатских мечты: купить платок матери, подружке – косметический набор, а себе плавки, тогда плавок в Союзе не было. Вот такая это была война.
Нас зовут «афганцами». Чужое имя. Как знак. Метка. Мы не такие, как все. Другие. Какие? Я не знаю, кто я: герой или дурак, на которого надо пальцем показывать? А может, преступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра будут громче. А я там кровь оставил… Свою… И чужую… Нам давали ордена, которые мы не носим… Мы еще будем их возвращать… Ордена, полученные честно на нечестной войне… Приглашают выступать в школы. А что рассказывать? О боевых действиях… О первом убитом…. О том, как я до сих пор боюсь темноты, если что-нибудь упадет – вздрагиваю… Как брали пленных, но до полка не доводили… Не всегда… (Молчит.) За полтора года войны я не видел ни одного душмана живого, только мертвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи… Ими хвастались… О кишлаках после артиллерийской обработки, похожих уже не на жилье, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, там нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убивали и тут же строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний… Прячусь от них. Отмахиваюсь… Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда – и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасают, ищу «Охотничьи», которые мы там курили… А курить врачи запрещают… У меня половина головы из железа. И выпить не могу…
Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне мы были объединены: нас одинаково обманули, мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет, а блага в нашей стране раздают по блату и привилегиям. А нам должны за кровь. У нас одна проблема: пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры… Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский «видик» – и все! Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше делать нечего. Молодежь к нам не потянулась. Ей мы непонятны. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы были в роли немцев – как мне один парень сказал. Думаю так… Так… Так они на нас смотрят… А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и подрывались на минах. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал – тот мне никто.
Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться. На работе, дома… Нас перестанут сажать в президиумы. Всем мы будем в тягость… Зачем ваша книга? Для кого? Нам, кто оттуда вернулся, все равно не понравится. Разве расскажешь все как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, их кровь перемешалась. Кому это нужно? Мы дома всем чужие. Все, что у меня осталось – это мой дом, жена, ребенок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не верю.
И уже не поверю.
Рядовой, гранатометчик
– Десять лет я молчал… Молчал про все…
В газетах писали: полк совершил учебный марш… Провел учебную стрельбу… Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отверткой пробить, для пули она – мишень. Каждый день в нас стреляли, нас убивали. Убили рядом знакомого парня. Первого… на моих глазах. Мы еще мало знали друг друга… Из миномета стреляли. Умирал он долго, в нем сидело много осколков. Нас узнавал. Но звал незнакомых нам людей…
Перед отправкой в Кабул чуть не подрался с одним, а его друг от меня его оттаскивает.
– Что ты с ним ссоришься, он завтра летит в Афган!
Там у нас никогда так не было, чтобы у каждого свой котелок, своя ложка. Один котелок – все навалимся, человек восемь. Но Афган – не детективная история, не приключение. Лежит убитый крестьянин – тщедушное тело и большие руки… Во время обстрела просишь (кого просишь, не знаю, Бога просишь): пусть земля расступится и спрячет меня. Пусть камень расступится… Собаки скулят. Жалобно скулят минно-розыскные собаки. Их тоже убивали, ранили. Убитые овчарки и люди, забинтованные собаки и люди. Люди без ног, собаки без лап. Не разобрать, где на снегу собачья кровь, а где человеческая. Сбросят в одну кучу трофейное оружие: китайское, американское, пакистанское, советское, английское – оно, я удивлялся, красивое, но это все для того, чтобы тебя убить. Страх! Мне не стыдно за этот страх. Страх человечнее смелости. Это я понял. Боишься и жалеешь, хотя бы самого себя… Оглядываешься вокруг, начинаешь замечать жизнь… Все останется жить, а ты исчезнешь. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и маленький, за тысячу километров от дома. Уже в космос люди летают, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем… В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали…
Вернулся в восемьдесят первом году… Все было на «ура». Выполнили интернациональный долг! Священный! Герои! Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Автобус был только вечером. Ждать не мог. Добирался на попутках: до Можайска на электричке, до Гагарина – на рейсовом автобусе, потом до Смоленска уже на перекладных. И от Смоленска до Витебска – на грузовой машине. Всего шестьсот километров. Никто деньги не брал, когда узнавали, что из Афгана. Это я запомнил. Последние два километра – пешком. Бегом. Так и добежал до дома.
Дома – запах тополей, звенят трамваи, девочка ест мороженое. И тополя, тополя пахнут! А там природа – это зеленая зона, так называемая «зеленка», оттуда стреляют. Так хотелось увидеть березку и синичку нашу. Углов боялся. Зайти за угол дома… Угол впереди, все внутри сжимается – а кто там за углом? Еще год боялся выйти на улицу: бронежилета нет, каски нет, автомата нет – как голый. А ночью сны: кто-то в лоб целится и такой калибр, что полголовы снесет… Бросался на стену… Затрещит телефон, у меня испарина на лбу – стреляют! Откуда? Начинаешь шарить глазами по сторонам. Утыкаешься в книжную полку… А-а-ах! Я дома…
В газетах по-прежнему писали: вертолетчик икс совершил учебный полет… Награжден орденом Красной Звезды… В Кабуле состоялся концерт в честь Первого мая с участием советских солдат… Афган освободил меня. Излечил от веры в то, что все у нас правильно и в газетах пишут правду, по телевизору говорят правду. «Что делать? Что делать?» – спрашивал я себя. Хотел на что-то решиться, куда-то пойти. А куда? Мать отговаривала, и никто из друзей не поддержал: мол, все молчат. Так надо.
Вот вам рассказал… Впервые попробовал говорить то, что думаю. Непривычно.
Рядовой, мотострелок
– Боюсь начинать рассказывать. Опять навалятся эти тени…
Каждый день… Каждый день я себе там говорила: «Дура я, дура. Зачем это сделала?». Особенно ночью появлялись такие мысли, когда не работала, а днем были другие: как всем помочь? Раны ужасные… Меня потрясло: зачем такие пули? Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное отверстие – маленькое, а внутри кишки, печень, селезенка – все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо еще заставить так мучиться… Они кричали всегда: «Мама!» – когда болит. Других слов я не слышала…
Я ведь хотела уехать из Ленинграда, на год-два, но уехать. Умер ребенок, потом умер муж. Ничего не держало меня в этом городе, наоборот, все напоминало, гнало. Там мы с ним встречались… Здесь первый раз поцеловались… В этом роддоме я родила…
Вызвал главврач:
– Поедете в Афганистан?
Мне надо было видеть, что другим хуже, чем мне. И я это увидела.
Война, нам говорили, справедливая, мы помогаем афганскому народу покончить с феодализмом и построить светлое социалистическое общество. О том, что наши ребята погибают, как-то умалчивалось, мы поняли так, что там много инфекционных заболеваний: малярия, брюшной тиф, гепатит. Восьмидесятый год… Начало… Прилетели в Кабул… Под госпиталь отдали старые английские конюшни. Ничего нет… Один шприц на всех… Офицеры выпьют спирт, обрабатываем раны бензином. Раны плохо заживают… Помогало солнце. Яркое солнце убивает микробы. Первых раненых увидела в нижнем белье и сапогах. Без пижам. Пижамы не скоро появились. Тапочки тоже. И одеяла… У одного мальчика… Помню этого мальчика: у него тело во все стороны гнулось, костей как не было, ноги веревками. Из него вытащили десятка два осколков.
Весь март тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги. Трупы… они лежали в отдельной палате… Полуголые, с выколотыми глазами, один раз – с вырезанной звездой на животе… Раньше в кино о гражданской войне такое видела. Цинковых гробов еще не было, еще не заготовили.
Скоро начали понемногу задумываться: кто же мы? Наши сомнения начальству не понравились. Тапочек, пижам еще не было, а уже развешивали привезенные лозунги, призывы, плакаты. На фоне лозунгов – худые, печальные лица наших ребят. Они остались в моем сознании так навсегда… Два раза в неделю – политическая учеба. Нас учили все время: священный долг, граница должна быть на замке. Самая неприятная вещь в армии – доносительство, приказ доносить. По каждой мелочи. На каждого раненого, больного. Это называлось знать настроение. Армия должна быть здоровой… Положено было «стучать» на всех. Жалеть нельзя было. Но мы жалели, на жалости там все держалось…
Мы ехали… спасать, помогать, любить. За этим мы ехали… Проходит какое-то время, и я ловлю себя на мысли, что ненавижу. Ненавижу этот мягкий и легкий песок, обжигающий, как огонь. Ненавижу эти горы. Ненавижу эти низкорослые кишлаки, из которых в любой момент могут выстрелить. Ненавижу случайного афганца, несущего корзину с дынями или стоящего возле своего дома. Еще неизвестно, где он был этой ночью и что делал. Убили знакомого офицера, недавно лечившегося в госпитале, вырезали две палатки солдат… В другом месте была отравлена вода… Кто-то поднял красивую зажигалку, она разорвалась в руках… Это же все наши мальчики гибли. Свои мальчики. Надо это понять… Вы не видели обожженного человека? Не видели. Лица нет, глаз нет, тела нет… Что-то сморщенное, покрытое желтой коркой… Не крик, а рык из-под этой корки…
Там жили ненавистью, выживали ненавистью. А чувство вины? Оно пришло не там, а здесь, когда я уже со стороны посмотрела на это. Там мне все казалось справедливостью, здесь я ужаснулась, вспомнив маленькую девочку, лежавшую в пыли без рук, без ног… Как сломанная кукла. После нашей бомбежки… А мы еще удивлялись, что они нас не любят. Они лечились в нашем госпитале… Даешь женщине лекарство, а она не поднимает на тебя глаз, она тебе никогда не улыбнется. Это даже обижало. Там обижало, здесь – нет. Здесь ты уже нормальный человек, к тебе возвратились все чувства.
Профессия у меня хорошая – спасать, она меня и спасла. Я могу оправдываться: мы там были нужны. Не всех спасли, кого могли спасти, – вот что самое страшное. Могла спасти – не было нужного лекарства. Могла спасти – поздно привезли (кто был в медротах? – плохо обученные солдаты, научившиеся только перевязывать.) Могла спасти – не добудилась пьяного хирурга. Могла спасти… Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах… От человека часто оставалось полведра мяса… А мы писали: погиб в автомобильной катастрофе, упал в пропасть, пищевое отравление. Когда их уже стали тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным. К трупам я привыкла. Но с тем, что они такие молодые, родные, маленькие, – с этим невозможно было смириться.
Привозят раненого. Как раз я дежурила. Он открыл глаза, посмотрел на меня:
– Ну все. – И умер.
Трое суток его искали в горах. Нашли. Привезли. Он бредил: «Врача! Врача!». Увидел белый халат, подумал – спасен! А рана была несовместимая с жизнью. Я только там узнала, что это такое: ранение – в черепную коробку… У меня в памяти свое кладбище, своя портретная галерея. В черной рамке.
Даже в смерти они не были равны. Почему-то тех, кто погиб в бою, жалели больше. Умерших в госпитале – меньше. Иногда они кричали, умирая… Так кричали! Помню, как умирал в реанимации майор. Военный советник. К нему пришла жена. Он умер у нее на глазах. И она начала страшно кричать… По-звериному… Хотелось закрыть все двери, чтобы никто не слышал… Потому что рядом умирали солдаты. Мальчики… И их некому было оплакивать. Умирали они одни. Она была лишняя среди нас…
– Мама! Мама!
– Я здесь, сынок, – говоришь, обманываешь.
Мы стали их мамами, сестрами. И всегда хотелось оправдать это доверие.
Привезут солдаты раненого. Сдадут и не уходят:
– Девочки, нам ничего не надо. Можно только посидеть у вас?
А здесь, дома… У них свои мамы, сестры. Жены. Здесь мы им не нужны. Там они нам доверяли то о себе, что в этой жизни никому не расскажут. Ты украл у товарища конфеты и съел. Здесь это чепуха. А там – страшное разочарование в себе. Человека те обстоятельства высвечивали. Если это трус, то скоро становилось ясно – трус, если это стукач, то сразу было видно – стукач. Если бабник, все знали – бабник. Не уверена, признается ли кто-либо здесь, а там не от одного слышала: убивать может понравиться, убивать – удовольствие. Это сильное чувство. Знакомый прапорщик уезжал в Союз и не скрывал: «Как я жить теперь буду, мне же убивать хочется?» Наверное, это тоже страсть: они говорили об этом спокойно. Мальчики – с восторгом! – как сожгли кишлак, растоптали все. Они же не сумасшедшие? Сколько их таких вернулось… Им убить человека ничего не стоит… Однажды в гости к нам пришел офицер, он приехал из-под Кандагара. Вечером надо прощаться, а он закрылся в пустой комнате и застрелился. Говорили, что пьяный был, не знаю. Тяжело. Тяжело было прожить один день. Мальчик на посту застрелился. Три часа на солнце. Мальчик домашний, не выдержал. Было много сумасшедших. Вначале они лежали в общих палатах, потом их поместили отдельно. Они стали убегать, их пугали решетки. Вместе со всеми им было легче. Одного особенно запомнила:
– Садись. Я спою тебе дембельскую. – Поет-поет и заснет.
Проснется:
– Домой! Домой! К маме… Мне здесь жарко…
Все время просился домой.
Многие курили. Анашу, марихуану… Кто что достанет… Объясняли, что становишься сильным, свободным от всего. В первую очередь от своего тела. Как будто ты на цыпочках идешь, слышишь легкость в каждой клеточке, чувствуешь каждый мускул. Хочется летать. Как будто летишь! Радость неудержимая. Все нравится, смеешься над всякой ерундой. Слышишь лучше, видишь лучше. Различаешь больше запахов, больше звуков. В этом состоянии легче убивать – ты обезболился. Жалости нет. Легко умирать – страх уходит. Такое чувство, что на тебе бронежилет, что ты бронированный. Я умела их слушать… Два раза… Я сама… Я два раза сама курила… В обоих случаях, когда психика и физика не выдерживали. Работала в инфекционном отделении. Должно быть тридцать коек, а лежит триста человек. Брюшной тиф, малярия. Им выдавали простыни, одеяла, а они лежали на своих шинелях, на голой земле. В трусах. Наголо остриженные, а с них сыплются вши… Платяные… Головные… Такого количества вшей я себе не представляла… А рядом в кишлаке афганцы ходили в наших больничных пижамах, с нашими простынями на голове вместо чалмы. Да, наши мальчики все продавали. Я их не осуждаю… Нет… Чаще не осуждаю. Они умирали за три рубля в месяц – наш солдат получал восемь чеков в месяц. Три рубля… Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой… У нас у всех была цинга, у меня выпали все передние зубы. Они продавали одеяла и покупали анашу. Что-нибудь сладкое. Безделушки… Там такие яркие лавочки, в этих лавочках так много привлекательного. У нас… в Союзе ничего этого нет, они этого не видели. И они продавали оружие, патроны, чтобы их потом этими же автоматами и патронами убивали. Покупали за это шоколад… Пирожки…
После всего там я другими глазами увидела свою страну. Зрачок стал другой, он увеличился…
Страшно было сюда возвращаться. Как-то странно. Будто с тебя сорвали всю кожу. Я все время плакала. Никого не могла видеть, кроме тех, кто там был. С ними бы проводила день и ночь. Разговоры других казались суетой, вздором каким-то. Полгода так длилось. А теперь сама в очереди за мясом ругаюсь. Стараешься жить нормальной жизнью, как жила «до». Но не получается. Я стала равнодушной к себе, к своей жизни. Жизнь кончена, ничего дальше не будет. А у мужчин это переживание еще мучительнее. Женщина может зацепиться за ребенка, а им не за что зацепиться. Они возвращаются, влюбляются, у них рождаются дети, а все равно Афганистан для них выше всего. Мне самой хочется разобраться, почему так. Зачем это все было? Почему это так меня трогает? Там все загонялось внутрь, тут вылезло.
Их надо жалеть, жалеть всех, кто там был. Я взрослый человек, мне было тридцать лет, и то какая ломка. А они – маленькие, они ничего не понимали. Их взяли из дому, дали в руки оружие. Им говорили: идете на святое дело, Родина вас не забудет. Теперь от них отводят глаза, стараются забыть эту войну. Все! И первые те, кто нас туда послал. Даже сами мы при встречах все реже говорим о войне. Эту войну никто не любит. Хотя я до сих пор плачу, когда играют афганский гимн. Полюбила всю афганскую музыку. Это как наркотик.
Недавно в автобусе встретила солдата. Мы его лечили. Он без правой руки остался. Я его хорошо помнила, тоже ленинградец.
– Может, тебе, Сережа, чем-нибудь помочь надо?
– Да пошла ты!
Я знаю, он меня найдет, попросит прощения. А у него кто просит? У всех, кто там был? Кого сломало и перекорежило? Не говорю о калеках. Как надо не любить свой народ, чтобы посылать его на такое? Я теперь не только любую войну, я мальчишеские драки ненавижу. И не говорите мне, что война эта кончилась. Летом дохнет горячей пылью, блеснет кольцо стоячей воды, резкий запах сухих цветов… Как удар в висок…
Это будет преследовать нас всю жизнь.
Медсестра
– Уже отдохнул от войны, отошел… Как передать все, что было?
Эту дрожь во всем теле, эту ярость… Как? До армии закончил автотранспортный техникум, и меня назначили возить командира батальона. На службу не жаловался. Но у нас стали настойчиво говорить об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, ни один политчас не обходился без этой информации: наши войска надежно охраняют границы Родины, оказывают помощь дружественному народу. Мы стали волноваться – могут на войну послать. Нас решили, как я теперь понимаю, обмануть….
Вызывали к командиру части и спрашивали:
– Ребята, хотите работать на новеньких машинах?
– Но сначала вы должны поехать на целину и помочь убрать хлеб.
Все согласились.
В самолете случайно услышали от летчиков, что летим в Ташкент. У меня невольно возникли сомнения: на целину ли мы летим? Сели действительно в Ташкенте. Строем отвели в огороженное проволокой место недалеко от аэродрома. Сидим. Командиры ходят какие-то возбужденные, шепчутся между собой. Подоспело время обеда, к нашей стоянке один за другим подтаскивают ящики с водкой.
– В колонну по два ста-а-а-новись!
Построили и тут же объявили, что, мол, через несколько часов за нами прилетит самолет – мы направляемся в Республику Афганистан выполнять свой воинский долг. Присягу.
Что тут началось! Страх, паника превратили людей в животных – одних в тихих, других в разъяренных. Кто-то плакал от обиды, кто-то впал в оцепенение, в транс от этого невероятного, гнусного обмана. Вот для чего, оказывается, приготовили водку. Чтобы легче и проще с нами поладить. После водки, когда в голову ударил еще и хмель, некоторые солдаты пытались убежать, бросились драться с офицерами. Но лагерь оцепили солдаты с автоматами, они стали теснить всех к самолету. В самолет нас грузили как ящики, забрасывали в железное пустое брюхо.
Так мы оказались в Афганистане… Скоро увидели раненых, убитых, услышали слова: «разведка», «бой», «операция». Мне кажется… Как я теперь понимаю, со мной случился шок… Я стал приходить в себя, осознавать ясно окружающее лишь через несколько месяцев.
Когда моя жена спросила: «Как муж попал в Афганистан?», ей ответили: «Изъявил добровольное желание». Такие же ответы получили все наши матери и жены. Понадобись моя жизнь, моя кровь для большого дела, я сам сказал бы: «Запишите меня добровольцем!». Но меня дважды обманули: отправили на войну и не сказали правду, какая это война, – правду я узнал через восемь лет. Лежат в могилах мои друзья и не знают, как их обманули с этой подлой войной. Я иногда им даже завидую: они никогда об этом не узнают. И их больше уже не обманут.
Рядовой, водитель
– Очень скучала вдали от Родины…
Муж служил долгое время в Германии, затем в Монголии… Двадцать лет моих прошли вне Родины, которую я любила безудержной любовью. И я написала в Генеральный штаб, что всю жизнь за границей, больше не могу. Прошу помочь вернуться домой…
Мы уже сели в поезд, а я все не верила. Каждую минуту спрашивала у мужа:
– Мы едем в Советский Союз? Ты меня не обманываешь?
На первой станции взяла в руку кусочек родной земли, смотрю на нее и улыбаюсь – родная! Я ее ела, поверьте. Умывала ею лицо.
Мой любимый… Мой… Наш… Юра у меня – старшенький. Нехорошо матери в этом признаваться, но я любила его больше всех на свете. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына, я любила всех, но его как-то особенно. Он был маленький, я спала и держала его за ножку. Не могла себе представить: как это я побегу в кино, а сына оставлю с кем-то. Брала его, трехмесячного, несколько бутылочек молока, и мы отправлялись в кино. Могу сказать, что я всю жизнь была с ним. Воспитывала его только по книгам, по идеальным образам: Павка Корчагин, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. В первом классе знал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из «Как закалялась сталь» Николая Островского.
Учительница была в восторге:
– Кто твоя мама, Юра? Ты уже так много прочитал.
– Моя мама работает в библиотеке.
Он знал идеалы, но он не знал жизни. Я тоже, столько лет живя вдали от Родины, воображала, что жизнь состоит из идеалов. Вот случай… Мы уже вернулись в родные места, жили в Черновцах. Юра учился в военном училище. Однажды, в два часа ночи – звонок в дверь. Стоит на пороге он.
– Ты, сынок? Что так поздно? Почему в дождь? Мокрый весь…
– Мама, я приехал тебе сказать: мне трудно жить. То, чему ты учила… Ничего этого нет. Откуда ты это все взяла? А это только начало… Как я буду жить дальше?
Всю ночь мы с ним просидели на кухне. О чем я могла говорить? Все о том же: жизнь прекрасна, люди хорошие. Все правда. Тихо меня слушал. Утром уехал в училище.
Не раз я настаивала:
– Юра, бросай училище, иди в гражданский институт. Твое место там. Я же вижу, как ты мучаешься.
Он не был доволен своим выбором, потому что военным стал случайно. Из него мог бы получиться хороший историк… Ученый. Жил он книгами… «Какая прекрасная страна – Древняя Греция». И читает все о Греции. Потом об Италии: «Мама, Леонардо да Винчи думал о полетах в космос. Когда-нибудь разгадают улыбку Джоконды…». А в десятом классе на зимних каникулах поехал в Москву. Там у меня живет брат, полковник в отставке. Юра с ним поделился: «Хочу поступать в университет на философский факультет». Тот не одобрил:
– Ты честный парень, Юра. Быть философом в наше время тяжело. Надо обманывать себя и других. Будешь говорить правду, угодишь за решетку или в сумасшедший дом.
И весной Юра решает:
– Мама, не спрашивай меня ни о чем. Я буду военным.
Я видела в военном городке цинковые гробы. Но тогда: один сын – в седьмом классе, другой – еще меньше. Надеялась: пока они вырастут, война кончится. Разве война может быть такой длинной? «А она оказалась длиной в школу, в десять лет», – сказал кто-то на Юриных поминках.
Выпускной вечер в училище. Сын – офицер. Но я не понимала, как это Юре надо будет куда-то уезжать. Не представляла ни на миг своей жизни без него.
– Куда тебя могут послать?
– Попрошусь в Афганистан.
– Мама, ты меня воспитала таким, теперь не вздумай перевоспитывать. Ты правильно меня воспитала. Все те выродки, которых я встречал в жизни, – не мой народ и не моя Родина. Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, и не каждому хватает для счастья забитого мясом холодильника и «Жигулей». Есть еще что-то… Ты так учила…
Он не один попросился в Афганистан, многие мальчики подавали рапорты. Все они – из хороших семей: у одного отец – председатель колхоза, у другого – сельский учитель… Мама – медсестра…
Что я могла сказать своему сыну? Что Родине это не нужно? А те, кому он хочет что-то доказать, как считали, так и будут считать, что в Афганистан едут только за тряпками, за чеками. За орденами, за карьерой. Для них Зоя Космодемьянская – фанатичка, а не идеал, потому что нормальный человек на такое не способен.
Не знаю, что со мной произошло: плакала, умоляла. Призналась ему в том, в чем сама себе боялась признаться… Но о чем уже говорили… Уже потихоньку шептались на кухнях. Я его просила:
– Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю, что ты в Афганистане, выйду на площадь… На Лобное место… Оболью себя бензином и сожгу. Тебя убьют там не за Родину, тебя убьют неизвестно за что… Просто так. Разве может Родина посылать на гибель своих лучших сыновей без великой идеи?
И он обманул меня, сказал, что поедет в Монголию. Но я знала: это же мой сын, он будет в Афганистане.
В это же время ушел в армию Гена, мой младший. Я за него была спокойна, он вырос другим. Их вечный спор с Юрой.
– Ты, Гена, мало читаешь. Я никогда не видел у тебя в руках книгу. Всегда – гитара.
– Я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть как все.
Они уехали, я перешла жить к ним в детскую. Потеряла интерес ко всему, кроме их книг, их вещей, их писем. Юра писал о Монголии, но так запутывался в географии, что я уже не сомневалась, где он. Днем и ночью перебирала свою жизнь… Резала себя на кусочки. Эту боль не передать никакими словами…
Я сама его туда отправила. Сама!
…Входят какие-то чужие люди, по их лицам сразу ловлю – они принесли мне беду. Отступаю в комнату. Остается последняя страшная надежда:
Они отводят глаза. А я еще раз готова отдать им одного сына, чтобы спасти другого.
Тихо-тихо кто-то из них произнес:
– Нет, Юра.
Мы сами об этом не знаем…
Мать
– Сразу я себя убедил: «Я все забываю. Я все забываю…».
У нас в семье табу на эту тему. Жена там поседела в сорок лет, у дочери были длинные волосы, сейчас носит короткую стрижку. Во время ночных обстрелов Кабула не могли ее добудиться и тянули за косы.
А через четыре года меня вдруг понесло, понесло… Хочу говорить… И вчера зашли случайные гости, не могу себя остановить. Принес альбом… Показал слайды: зависают над кишлаком «вертушки», кладут на носилки раненого, рядом – его оторванную ногу в кроссовке. Пленные, приговоренные к расстрелу, наивно смотрят в объектив, через десять минут их уже не будет… Аллах акбар! Оглянулся: мужчины на балконе курят, женщины удалились на кухню. Сидят только их дети. Подростки. Этим любопытно. Не понимаю, что со мной творится? Хочу говорить. Отчего вдруг? Чтобы ничего не забыть…
Как было тогда, что я чувствовал тогда – не передам. Я смогу рассказать о своих чувствах сейчас. Через четыре года… Через десять лет все станет звучать иначе, может быть, разобьется вдребезги.
Была какая-то злость. Досада. Почему я должен ехать? Почему на мне сошлось? Но ощутил нагрузку, не сломался – это дало удовлетворение. Начинаешь готовиться с самой мелочевки: какой ножик с собой взять, какой бритвенный прибор… Собрался. И тут уже невтерпеж: скорее встретиться с неизвестным, чтобы не прошел подъем, высота чувств. Схема получается… Это вам расскажет любой и каждый. А меня озноб или пот прошибает… И еще такой момент: когда самолет приземлился, облегчение – и в то же время возбуждение: сейчас все начнется, увидим, пощупаем, поживем этим.
Стоят трое афганцев, о чем-то разговаривают, смеются. Пробежал вдоль торговых рядов грязный мальчишка, нырнул куда-то в толстые тряпки под прилавок. Уставился на меня зеленым немигающим глазом попугай. Я смотрю и не понимаю, что происходит… Они не прерывают разговора. Тот, что спиной ко мне, поворачивается… И я уже смотрю в дуло пистолета. Пистолет поднимается… поднимается… Вот отверстие… Я его вижу. Одновременно я слышу резкий щелчок, и – меня нет… Я нахожусь в одно и то же время и по ту, и по эту сторону… Но я еще не лежу, а стою. Хочу с ними говорить, не могу: а-а-а…
Мир проявляется медленно, как фотография… Окно… Высокое окно… Что-то белое и что-то большое, грузное в этом белом… Кто-то… Очки мешают, не разглядеть лица… С него капает пот… И капли пота меня больно ударяют по лицу… Поднимаю неподъемные веки и слышу облегченный вздох:
– Ну все, товарищ подполковник, вернулся из «командировки».
Но если я подниму голову, хотя бы поверну ее, у меня куда-то проваливается мозг. Сознание мерцает… Опять ныряет в толстые тряпки под прилавок мальчишка… Уставился на меня немигающим зеленым глазом попугай… Стоят трое афганцев… Тот, что спиной ко мне, поворачивается… И я упираюсь взглядом в дуло пистолета… Вот отверстие… Я его вижу… Теперь я не жду знакомого щелчка… Кричу: «Я должен тебя убить! Я должен тебя убить!..».
Какого цвета крик? Какого вкуса? А какого цвета кровь? В госпитале – она красная, на сухом песке – серая, на скале – ярко-синяя к вечеру, уже не живая. Из тяжелораненого человека кровь вытекает быстро, как из разбитой банки… И человек тухнет… тухнет… Одни глаза до конца блестят и смотрят мимо тебя. Упорно куда-то мимо…
(Начинает нервно ходить по комнате).
Вы смотрите на горы снизу – бесконечные, не достать, подниметесь на самолете – внизу перевернутые сфинксы лежат. Понимаете, о чем я? О времени. О расстоянии между событиями. Тогда даже мы, участники, не знали, что это за война. Не путайте меня сегодняшнего со мной вчерашним, с тем, кто в семьдесят девятом был там. Да, я этому верил! В восемьдесят третьем приехал в Москву. Тут жили так, вели себя так, как будто нас там не было. И войны никакой не было. В метро, как всегда, смеялись, целовались. Читали. Я шел по Арбату и останавливал людей:
– Сколько лет идет война в Афганистане?
– Не знаю…
– Сколько лет идет война…
– Не знаю, зачем это вам?
– Сколько лет…
– Кажется, два года…
– Сколько лет…
– А что, там война? На самом деле?
Теперь можно смеяться над нами, издеваться: мол, слепые и глупые, как овцы, были. Послушное стадо! Теперь Горбачев разрешил… Вожжи отпущены… Смейтесь! Но старая китайская мудрость гласит: достоин всяческого презрения охотник, хвастающийся у ног сдохшего льва, и достоин всяческого уважения охотник, хвастающийся у ног поверженного льва. Кто-то может говорить об ошибках. Правда, не знаю: кто? Но я – нет. Меня спросят: «Почему вы молчали тогда? Ведь вы были не мальчик. Вам было без малого пятьдесят лет». Я должен понять…
Начну с того, что я там стрелял, и в то же время я уважаю этот народ. Я даже его люблю. Мне нравятся его песни, его молитвы: спокойные и бесконечные, как его горы. Но вот я – буду говорить только о себе – искренне верил, что юрта хуже пятиэтажного дома, что без унитаза нет культуры. И мы завалим их унитазами, и построим каменные дома. Научим водить трактор. И мы привезли им столы для кабинетов, графины для воды, и красные скатерти для официальных заседаний, и тысячи портретов Маркса, Энгельса, Ленина. Они висели во всех кабинетах, над головой каждого начальника. Мы привезли им начальственные черные «Волги». И наши тракторы, и наших племенных бычков. Крестьяне (дехкане) не хотели брать землю, которую им дарили, потому что она принадлежит Аллаху, человек не может ее ни дать, ни взять. Как из космоса, смотрели на нас проломленные черепа мечетей…
Мы никогда не узнаем, как муравей видит мир. Почитайте об этом у Энгельса. А у востоковеда Спенсерова: «Афганистан нельзя купить, его можно перекупить». Утром закуриваю сигарету: на пепельнице сидит маленькая, как майский жук, ящерица. Возвращаюсь через несколько дней: ящерица сидит на пепельнице в той же позе, даже головку еще не повернула. Понял: вот он – Восток. Я десять раз исчезну и воскресну, разобьюсь и поднимусь, а она еще не успеет своей крошечной головки повернуть. По их календарю – тысяча триста шестьдесят первый год…
Вот сижу дома, в кресле у телевизора. Могу ли я убить человека? Да я мухи не убью! Первые дни, даже месяцы, пули срезают ветки тутовника – ощущение нереальности… Психология боя иная… Бежишь и ловишь цель… Впереди… Боковым зрением… Я не считал, сколько я убил… Но бежал. Ловил цель… Здесь… Там… Живую движущуюся цель… И сам тоже был целью. Мишенью… Нет, с войны не возвращаются героями. Оттуда нельзя вернуться героем…
За все заплачено! За все! Сполна.
Вы представляете себе и любите солдата сорок пятого года, которого любила вся Европа. Наивный, простоватый, с широким ремнем. Ему ничего не надо, ему нужна была только победа – и домой! А этот солдат, который вернулся в ваш подъезд, на вашу улицу, – другой. Этому солдату нужны были джинсы и магнитофон. Он увидел и запомнил другую жизнь. Многого захотел… Еще древние говорили: не будите спящую собаку. Не давайте человеку нечеловеческих испытаний. Он их не выдержит.
Но ведь было же… Было! Помню… В тюрьме мне показали главаря, как мы тогда называли, банды. Лежит на железной кровати и читает… Знакомый книжный переплет… Ленин: «Государство и революция». «Жаль, – сказал, – не успею прочитать. Может, мои дети прочтут…»
Сгорела школа, осталась одна стена. Каждое утро дети приходят на урок и пишут на ней угольками, оставшимися после пожара. После уроков стену белят известью. И она снова похожа на чистый лист белой бумаги…
Привезли из «зеленки» лейтенанта без рук и без ног. Без всего мужского. Первые слова, которые он произносит после шока: «Как там мои ребята?..».
За все заплачено! И мы заплатили больше всех. Больше вас…
Нам ничего не надо, мы все прошли. Выслушайте нас и поймите. А все привыкли к действию – дать лекарство, дать пенсию, дать квартиру. Дать и забыть. Это «дайте» оплачено дорогой валютой – кровью. Но мы к вам на исповедь пришли. Мы исповедуемся.
Не забудьте о тайне исповеди…
Военный советник
– Нет, все-таки хорошо, что так кончилось. Поражением. У нас глаза откроются…
Невозможно все рассказать… Было то, что было, после чего осталось то, что я увидел и запомнил, уже только часть от целого, а дальше появится то, что смогу рассказать. В слове останется десятая часть… В лучшем случае, если я постараюсь. Напрягусь. А ради кого? Ради Алешки, который умер у меня на руках – восемь осколков в живот. Мы спускали его с гор восемнадцать часов. Семнадцать часов он жил, на восемнадцатом – умер. Ради Алешки вспомнить? Но это только с точки зрения религии человеку что-нибудь нужно, особенно там – наверху. Я больше верю, что им не больно, не страшно и не стыдно. Тогда зачем ворошить? Хотите что-то узнать у нас… Да… Мы, конечно, с клеймом… А что у нас можно узнать? Вы, наверное, принимаете нас за других? Поймите, трудно в чужой стране, воюя неизвестно за что, приобрести какие-то идеалы. Найти смысл. Там мы были одинаковыми, но не были единомышленниками. Как и здесь… В нормальном мире… Случаю ничего не стоило поменять местами тех, кто там был, на тех, кто там не был. Мы все разные, но мы везде одинаковые – и там, и здесь.
Помню, в шестом или седьмом классе учительница русской литературы вызвала к доске:
– Кто твой любимый герой: Чапаев или Павел Корчагин?
– Гек Финн.
– Почему Гек Финн?
– Гек Финн, когда решал, выдать беглого негра Джимма или гореть за него в аду, сказал себе: «Ну и черт с ним, буду гореть в аду», но Джимма не выдал.
– А если бы Джимм был белый, а ты красный? – спросил после уроков Алешка, мой друг.
Так всю жизнь и живем – белые и красные, кто не с нами, тот против нас.
Под Баграмом… Зашли в кишлак, попросили поесть. По их законам, если человек в твоем доме и голодный, ему нельзя отказать в горячей лепешке. Женщины посадили нас за стол и покормили. Когда мы уехали, этих женщин и их детей свои же до смерти закидали камнями и палками. Они знали, что их убьют, но все равно нас не выгнали. А мы к ним со своими законами… В шапках заходили в мечеть…
Зачем заставлять меня вспоминать? Это все очень интимное: и первый мой убитый, и моя собственная кровь на легком песке, и высокая труба верблюжьей головы, качнувшаяся надо мной прежде, чем я потерял сознание. И в то же время я там был как все. За всю жизнь я один лишь раз отказался быть как все. Один раз… В детском садике нас заставляли браться за руки и ходить парами, а я любил гулять один. Молодые воспитательницы какое-то время терпели мои выходки, но скоро одна из них вышла замуж, уехала, вместо нее к нам привели тетю Клаву.
– Бери за руку Сережу, – подвела ко мне другого мальчика тетя Клава.
– Не хочу.
– Почему ты не хочешь?
– Люблю гулять один.
– Делай, как делают все послушные мальчики и девочки.
– Не буду.
После прогулки тетя Клава раздела меня, даже трусики сняла и маечку, отвела и оставила на три часа в пустой темной комнате. А в детстве нет ничего страшнее, чем остаться одному. В темноте… Кажется, что тебя все забыли. Никогда не найдут. Назавтра я шел с Сережей за руку, я стал как все. В школе – класс решал, в институте – курс решал, на заводе – коллектив решал. Всюду за меня решали. Мне внушили, что один человек ничего не может. В какой-то книге наткнулся на слова «убийство мужества». Когда отправлялся туда, во мне нечего было убивать: «Добровольцы, два шага вперед». Все два шага вперед, и я – два шага вперед.
В Шинданде… Видел двух помешавшихся наших солдат, они все время «вели» переговоры с «духами». Они им объясняли, что такое социализм по учебнику истории за десятый класс… Кто такой Ленин… «А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам». Дедушка Крылов… Классика… А однажды в школу, мне лет одиннадцать было, пришла «тетя снайпер», которая убила семьдесят восемь «дядей фрицев». Вернулся домой, заикался, ночью поднялась температура. Родители решили: грипп. Неделю дома просидел. Любимого своего «Овода» читал.
Зачем заставлять меня вспоминать? Я, когда вернулся… Я свои довоенные джинсы и рубашки не смог носить, это была одежда чужого, незнакомого мне человека, хотя она сохранила мой запах, как уверяла мать. Того человека уже нет, он не существует. Этот другой, который теперь я, носит только ту же фамилию. Я встречался до армии с девушкой, был влюблен. Приехал и не позвонил ей. Она случайно узнала, что я уже в городе, нашла меня. Зря искала… Не надо было встречаться… «Того человека, которого ты любила, и он тебя любил – нет, – сказал я ей. – Я – другой. Ну, другой я!». Она плакала. Приходила много раз. Звонила. Зачем? Я – другой! Другой! (Помолчал. Успокоился.) Мне все-таки нравился тот первый человек… Я о нем тоскую… Я его вспоминаю… «Падре, – спросил Овод у Монтанелли, – теперь ваш Бог удовлетворен?»
Кому мне бросить эти слова? Как гранату…
Рядовой, артиллерист
– Как я сюда попала? Очень просто. Верила всему, что писали в газетах…
Я себе говорила: «Раньше подвиги совершали, были способны на самопожертвование, а теперь наша молодежь никуда не годится. И я такая же. Там война, а я себе платье шью, прическу новую придумываю». Мама плакала: «Умирать буду – не прощу. Я не для того вас рожала, чтобы хоронить отдельно руки, ноги».
Из первых впечатлений? Пересылка в Кабуле. Колючая проволока, солдаты с автоматами… Собаки лают… Одни женщины. Сотни женщин. Приходят офицеры, выбирают, кто посимпатичнее, помоложе. Откровенно. Меня подозвал майор:
– Давай отвезу в свой батальон, если тебя не смущает моя машина.
– Какая машина?
– Из-под «груза двести»… – я уже знала, что «груз двести» – это убитые, это гробы.
– Гробы есть?
– Сейчас выгрузят.
Обыкновенный КамАЗ с брезентом. Гробы бросали, как ящики с патронами. Я ужаснулась. Солдаты поняли: «новенькая». Приехала в часть. Жара шестьдесят градусов. В туалете мух столько, что могут поднять тебя на крыльях. Душа – нет. Вода на вес золота. Я – единственная женщина.
Через две недели вызвал комбат:
– Ты будешь со мной жить…
Два месяца отбивалась. Один раз чуть гранату не бросила, в другой – за нож схватилась. Наслушалась: «Выбираешь выше звездами… Чай с маслом захочешь – сама придешь…». Никогда раньше не материлась, а тут:
– Да вали ты отсюда!
У меня мат-перемат, огрубела. Перевели в Кабул, дежурной в гостиницу. Первое время на всех зверем кидалась. Смотрели как на ненормальную.
– Чего ты бросаешься? Мы кусаться не собираемся.
А я по-другому не могла, привыкла защищаться. Позовет кто-нибудь:
– Зайди чаю попить.
– Ты меня зовешь на чашку чая или на палку чая?
Пока у меня не появился мой… Любовь? Таких слов здесь не говорят. Вот знакомит он меня со своими друзьями:
– Моя жена.
А я ему на ухо:
– Афганская?
Ехали на бэтээре… Я его собой прикрыла, но, к счастью, пуля – в люк. А он сидел спиной. Вернулись – написал жене обо мне. Два месяца не получает из дому писем.
Люблю пойти пострелять. Полностью весь магазин выпускаю одной очередью. Мне становится легче.
Одного «духа» сама убила. Выехали в горы, подышать, полюбоваться. Шорох за камнем – меня как током назад, и я – очередь. Первая. Подошла посмотреть: сильный, красивый мужчина лежал…
– С тобой можно в разведку, – сказали ребята.
Я нос задрала. Им еще понравилось, что я не полезла к нему в сумку за вещами, я взяла только пистолет. Потом они всю дорогу меня сторожили – вдруг замутит, тошнить начнет. Ничего. Тело легкое вдруг стало… Пришла, открыла холодильник и много съела, так много, что в другой раз мне бы этого на неделю хватило. Нервное расстройство. Принесли бутылку водки. Пила и не пьянела. Жуть брала: промажь я, и моя мама получила бы «груз двести».
Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной.
Откуда бралась ненависть? Очень просто. Убили товарища, а ты с ним был рядом, ел из одного котелка. Он тебе про подружку, про маму рассказывал. И вот лежит весь обгоревший. Сразу все понятно… Тут будешь стрелять до сумасшествия. Мы не привыкли думать о больших вопросах: кто это затеял? Кто виноват? Есть анекдот на эту тему… У армянского радио спрашивают: что такое политика? Армянское радио отвечает: вы слышали, как писает комар? Так политика – это еще тоньше. Пусть правительство этим занимается, а тут люди видят кровь и звереют. Чумеют… Один раз увидишь, как обгоревшая кожа сворачивается в трубочку… Точно лопнул капроновый чулок… И тебе хватит… Жуть, когда животных убивают… Расстреливали караван, он вез оружие. Людей расстреляли отдельно, ишаков – отдельно. Они одинаково молчали и ждали смерти. Раненый ишак кричал, как будто по железу – чем-то железным. Скрипуче так…
– Ну и дурак! Поссорился с сержантом и ушел к «духам». Стрельнул бы – и все. Точка. Списали бы на боевые потери.
Откровенный разговор… Ведь многие офицеры думали, что тут, как в Союзе: можно ударить солдата, оскорбить. Их находили убитыми… В бою в спину выстрелят… Найди – кто? Пойди – докажи.
На заставах в горах ребята никого годами не видят. Вертолет три раза в неделю. Я приехала. Подошел лейтенант:
– Девушка, снимите косынку. Распустите волосы. – А у меня были длинные волосы. – Я уже два года только стриженые солдатские головы вижу.
Все солдаты высыпали из траншей…
А в бою меня закрыл собой один солдат. Сколько я буду жива, буду его помнить, за него свечку в церкви ставить. Он меня не знал, он это сделал только потому, что я – женщина. Такое запоминается. И где ты в обычной жизни проверишь, сможет ли тебя закрыть собою человек? Тут лучшее – еще лучше, плохое – еще хуже. Обстреливают… Это уже другой случай… И солдат крикнул мне какую-то пошлость. Гадость! Что-то грязное. «Будь ты проклят!» – подумала. И его убило, отрезало половину головы, половину туловища. На моих глазах… Меня затрясло, как в малярии. Хотя я до этого видела большие целлофановые мешки с трупами. Трупы, завернутые в фольгу… Как… Сравнение не подберу… Я не могла бы писать, искала и искала бы слова. Пробовала бы их и пробовала на вкус. Ну… как большие игрушки… Но чтобы меня трясло, такого не было. А тут я не могла успокоиться.
Не встречала, чтобы девчонки носили боевые награды, даже если они у них есть. Одна надела медаль «За боевые заслуги», все смеялись – «За половые заслуги». Потому что известно: медаль можно получить за ночь с комбатом… Почему сюда женщин берут? Без них нельзя обойтись… Понимаете? Некоторые господа офицеры с ума бы сошли. А почему женщины на войну рвутся? Деньги… Хорошие деньги. Купишь магнитофон, вещи. Вернешься домой – продашь. В Союзе столько не заработаешь. Не скопишь… Нет одной правды, она разная, эта правда. У нас же честный разговор… Некоторые девчонки путались с дуканщиками за шмотки. Зайдешь в дукан, бачата… дети… Кричат: «Ханум, джик-джик…» – и показывают на подсобку. Свои офицеры расплачиваются чеками, так и говорят: «Пойду к “чекистке”». Слышали анекдот? В Кабуле на пересыльном пункте встретились: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Баба Яга. Все едут защищать революцию. Через два года увидели друг друга по дороге домой: у Змея Горыныча только одна голова уцелела, остальные снесли, Кощей Бессмертный чуть живым остался, потому что бессмертный, а Баба Яга – вся в «монтане» и «варенка» на ней. Веселая.
– А я на третий год оформляюсь.
– Ты с ума сошла, Баба Яга!
– Это я в Союзе Баба Яга, а тут – Василиса Прекрасная.
Солдаты… Мальчишки… Они сломленные отсюда выходят, им по восемнадцать-девятнадцать лет. Дети. Многое тут увидели. Многое… Как женщина продается за ящик, да где там ящик, за две банки тушенки. Потом этими глазами он будет смотреть на жену. На всех… Им тут испортили зрение. Не надо удивляться, что они себя потом как-то не так ведут в Союзе. Один мой знакомый уже в тюрьме сидит… У них другой опыт. Они привыкли все решать автоматом, силой… Дуканщик продавал арбузы, один арбуз – сто афгашек. Наши солдаты хотели дешевле. Он отказывался. Ах, так! – один взял и расстрелял из автомата все арбузы, целую гору арбузов. Попробуй такому в троллейбусе наступить на ногу или не пропустить в очереди. Попробуй!
Мечтала: вернусь домой, вынесу раскладушку в сад и засну под яблоней. Под яблоками… А теперь боюсь. От многих можно услышать, особенно сейчас, перед выводом наших войск: «Я боюсь возвращаться в Союз». Почему? Очень просто. Мы приедем, а там все изменилось: другая мода за эти два года, другая музыка, другие улицы. Другое отношение к этой войне… Мы будем как белые вороны.
Разыщите меня через год. Дома. Я вам свой адрес оставлю…
Служащая
– Я настолько верил, что и сейчас не могу с этим расстаться…
И сейчас… Что бы мне ни говорили, что бы я ни читал, каждый раз оставляю себе маленькую лазейку. Срабатывает инстинкт самосохранения. Защита. Перед армией окончил институт физкультуры. Последнюю, дипломную практику проходил в «Артеке», работал вожатым. Там столько раз произносил высокие слова: пионерское слово, пионерское дело… Сейчас глупо звучит… А тогда слезы на глазах…
В военкомате попросил: «Отправьте меня в Афганистан…». Замполит нам читал лекции о международном положении, это он сказал, что мы всего лишь на один час опередили американские «зеленые береты», они уже находились в воздухе. Обидно за свою доверчивость. Нам вдалбливали, вдалбливали и, наконец, вдолбили, что это – «интернациональный долг». До конца дойти никогда не могу… Поставить в своих размышлениях точку… «Сними, – говорю себе, – розовые очки». Уезжал я не в восьмидесятом и не в восемьдесят первом году, а в восемьдесят шестом. Но еще все молчали. В восемьдесят седьмом я уже был в Хосте. Мы взяли одну горку… Семь наших ребят положили… Приехали московские журналисты. Им привезли «зеленых» (Афганская народная армия), якобы это они отбили горку. Афганцы позировали, а наши солдаты в морге лежали…
В Афганистан в «учебке» отбирали самых лучших. Страшно было попасть в Тулу, в Псков или в Кировабад – грязно и душно, а в Афган просились, добивались. Майор Здобин начал нас с Сашей Кривцовым, моим другом, уговаривать, чтобы мы забрали свои рапорты:
– Пусть лучше Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас. На вас государство столько затратило.
Синицын – простой крестьянский парень, тракторист. Я уже с дипломом, Саша учился на факультете германо-романской филологии Кемеровского университета. Он исключительно пел. Играл на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре. Музыку сочинял. Рисовал хорошо. Мы жили с ним как братья. На политчасах нам о подвигах рассказывали, о геройстве. Афганистан, утверждали, – та же Испания. И вдруг: «Лучше пусть Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас».
Увидеть войну было интересно с психологической точки зрения. Прежде всего, изучить себя. Меня это привлекало. Расспрашивал знакомых ребят, кто там был. Один, как я теперь соображаю, лапшу нам на уши вешал. У него на груди виднелось крупное пятно, как бы от ожога, буквой «р», он специально носил открытые рубашки, показывал. Сочинял, как они ночью с «вертушек» на горы садились, еще я запомнил, что десантник три секунды – ангел, до раскрытия парашюта, три минуты – орел, пока летит, остальное время – ломовая лошадь. Мы принимали все за чистую монету. Повстречался бы мне сейчас этот Гомер! Таких потом раскусывал с ходу: «Если бы были мозги, то была бы контузия». Другой парень, наоборот, отговаривал:
– Не нужно тебе туда ехать. Это грязь, а не романтика.
Мне не нравилось:
– Ты пробовал? Я тоже хочу попробовать.
Он учил, как остаться живым:
– Выстрелил – откатись на два метра от места, с которого стрелял. Прячь за дувал или за скалу ствол автомата, чтобы не увидели пламя, не засекли. Когда идешь, не пей, не пойдешь. В карауле – не засни, царапай себе лицо, кусай за руку. Десантник бежит сначала, сколько может, а потом, сколько надо.
Отец у меня ученый, мама – инженер. Они с детства воспитывали во мне личность. Я хотел быть личностью… За это… (Смеется.) Меня исключили из октябрят, долго не принимали в пионеры. Дрался за честь. Повязали галстук, я его не снимал, спал с ним. На уроках литературы учительница обрывала:
– Не говори сам, а говори как в книге.
– Я неправильно рассказываю?
– Не так, как в книге…
Как в сказке, где царь все краски не любил, кроме серых. И все в этом царстве-государстве было мышиного цвета.
Сейчас я призываю своих учеников (работаю в школе):
– Учитесь думать, чтобы из вас не сделали очередных дураков. Оловянных солдатиков.
До армии меня учили жить Достоевский и Толстой, в армии – сержанты. Власть у сержантов – неограниченная, три сержанта на взвод.
– Слушай мою команду! Что должен иметь десантник? Повторить!
– Десантник должен иметь наглую морду, железный кулак и ни грамма совести.
– Совесть – это роскошь для десантника. Повторить!
– Совесть – это роскошь для десантника.
– Вы – медсанбат. Медсанбат – белая кость ВДВ (воздушно-десантных войск). Повторить!
Из солдатского письма: «Мама, купи барана и назови Сержантом, приеду домой, убью».
Сам режим забивает сознание, нет сил сопротивляться. С тобой можно сделать все…
В шесть часов утра – подъем. Три раза: подъем – отбой. Встать – лечь.
Три секунды, чтобы построиться на «взлетке» – белый линолеум, белый, чтобы чаще мыть, драить. Сто шестьдесят человек должны соскочить с кроватей и за три секунды построиться. За сорок пять секунд одеться по форме номер три – полная форма, но без ремня и шапки. Как-то один не успел накрутить портянки.
– Разойтись и повторить!
Опять не успел.
– Разойтись и повторить!
Физзарядка. Рукопашный бой: сочетание каратэ, бокса, самбо и боевых приемов против ножа, палки, саперной лопатки, пистолета, автомата. Он – с автоматом, ты – с голыми руками. Ты – с саперной лопаткой, он – с голыми руками. Сто метров «зайчиком» проскакать… На одной ноге… Десять кирпичей сломать кулаком. Заводили на стройку: «Не уйдете, пока не научитесь». Самое трудное – преодолеть себя, не бояться бить.
Пять минут на умывание. Двенадцать краников на сто шестьдесят человек.
– Построились! Разбежались! – Через минуту опять. – Построились! Разбежались!
Утренний осмотр: проверка блях – они должны блестеть, как у кота одно место, белых воротничков, наличия в шапке двух иголок с ниткой.
– Вперед! Шагом марш! На исходную позицию!
За весь день – полчаса свободного времени. После обеда – для письма.
– Рядовой Кривцов, почему сидите и не пишете?
– Я думаю, товарищ сержант.
– Почему тихо отвечаете?
– Я думаю, товарищ сержант.
– Почему не орете, как вас учили орать? Придется потренироваться «на очке».
Тренировать «на очке» – орать в унитаз, отрабатывать командный голос. Сзади сержант, следит, чтобы было гулкое эхо.
Из солдатского словаря:
Отбой – «я люблю тебя, жизнь». Утренний осмотр – «верьте мне, люди». Вечерняя поверка – «их знали в лицо». На губе – «вдали от Родины». Демобилизация – «свет далекой звезды». Поле для тактических занятий – «поле дураков». Посудомойка – «дискотека» (тарелки крутятся, как диски). Замполит – «золушка» (на флоте – пассажир).
– Медсанбат – белая кость ВДВ. Повторить!
Вечное чувство голода. Заветное место – военторг, там можно купить кекс, конфеты, шоколад. Отстреляешься на «пятерку», получаешь разрешение сходить в магазин. Не хватает денег, продаем несколько кирпичей. Берем один кирпич, подходим – два здоровых типа к новенькому, у которого есть деньги:
– Купи кирпич.
– А зачем он мне?
Берем в кольцо:
– Купи кирпич…
– Сколько?
– Три рубля.
Дает нам три рубля, заходит за угол и выбрасывает кирпич. А мы за три рубля наедаемся. Один кирпич равен десяти кексам.
– Совесть – это роскошь для десантника. Медсанбат – белая кость ВДВ.
Я, наверное, неплохой актер, потому что быстро научился играть отведенную мне роль. Хуже всего прослыть «чадос», от слова «чадо», что-то слабое, не мужского рода. Через три месяца попал в увольнение. Как все забылось! Еще недавно целовался с девушкой, сидел в кафе, танцевал. Как будто не три месяца прошло, а три года, и ты вернулся в цивилизацию.
– Обезьяны, построиться! Что главное для десантника? Главное для десантника – не пролететь мимо земли.
Перед самым отъездом праздновали Новый год. Я был Дедом Морозом, Сашка – Снегурочкой. Это напомнило школу.
Шли двенадцать суток… Хуже гор могут быть только горы… Уходили от банды… Держались на допинге…
– Санинструктор, давай свой «озверин». – А это был сиднокарб. Съели все таблетки.
И еще шутили.
– На что жалуетесь? – спрашивает врач у кота Леопольда. Начинает кто-то первый.
– На мышей.
– Мышите – не мышите… Все ясно. Вы очень добрый. Вам нужно разозлиться. Вот таблетки «озверин». Принимать по одной таблетке три раза в день после еды.
– Ну и что?
– Озвереете.
На пятые сутки взял и застрелился солдат, пропустил всех вперед и приставил автомат к горлу. Нам пришлось тащить его труп, его рюкзак, его бронежилет, его каску. Жалости не было. Он знал, что у нас не бросают трупы – уносят.
Вспомнили и пожалели мы его, когда уже уезжали домой, демобилизовались.
– Принимать по одной таблетке три раза в день…
– Ну и что?
– Озвереете.
Подрывные ранения – самые страшные… Оторвана нога до колена… Кость торчит… От второй ноги оторвана пятка… Срезан член… Выбит глаз… Оторвано ухо… Первый раз меня бил колотун, в горле щекотало… Сам себя уговаривал: «Не сделаешь сейчас, никогда не станешь санинструктором». Подползаю – ног нет. Перетянул жгутом, остановил кровь, обезболил, усыпил… Разрывная пуля в живот… Кишки вывалились… Перевязал, остановил кровь, обезболил, усыпил… Четыре часа держал… Умер…
Не хватало медикаментов. Зеленки обыкновенной не было. То не успели подвезти, то лимиты кончились – наша плановая экономика. Добывали трофейное, импортное. У меня всегда в сумке лежало двадцать японских разовых шприцев. Они в мягкой полиэтиленовой упаковке, снимешь чехол – делаешь укол. У наших «рекордов» протирались бумажные прокладки, становились нестерильными. Половина не всасывалась, не качала – брак. Наши кровезаменители в бутылках по пол-литра. Для оказания помощи одному тяжелораненому нужно два литра – четыре бутылки. Как на поле боя ухитриться держать около часа на вытянутой руке резиновый воздуховод? Практически невозможно. А сколько бутылок ты на себе унесешь? Что предлагают итальянцы? Полиэтиленовый пакет на один литр, ты прыгаешь на него в сапогах – не лопается. Дальше: бинт обыкновенный, советский бинт стерильный. Упаковка дубовая, весит больше, чем сам бинт. Импортные… таиландские, австрийские… Тоньше, белее почему-то… Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный… французский, немецкий… А наши отечественные шины?! Это же лыжи, а не медицинские приспособления. Сколько их с собой возьмешь? У меня были английские: отдельные – на предплечье, голень, бедро. На «молнии», надувные. Всунул руку, застегнул. Кость сломанная не двигается, защищена от ударов при транспортировке.
За девять лет ничего нового не поставили у нас на производство. Бинт – тот же, шина – та же. Советский солдат – самый дешевый солдат. Самый терпеливый, неприхотливый. Не снабжен, не защищен. Расходуемый материал. Так было в сорок первом году… И через пятьдесят лет так. Почему?
Страшно, когда в тебя лупят, а не самому стрелять. Чтобы выжить, надо постоянно думать об этом. Я думал… Я никогда не садился в первую и последнюю машины. Никогда не спускал ноги в люк, пусть лучше с брони свисают, чтобы не отрезало при подрыве. Держал в запасе немецкие таблетки для подавления чувства страха. Но никто больше их не пил. У меня был бронежилет… Опять же! Наш бронежилет не поднять, в нем невозможно двигаться, американский – ни одной железной части, из какого-то пуленепробиваемого материала. В нем – как в спортивном костюме. Пистолет Макарова в упор его не берет, а из автомата только со ста метров пуля достает. У нас шлемы тридцатых годов, каски дурацкие. Еще с той войны… (Задумывается.) За это… За многое там было стыдно… Почему мы такие? Американские спальные мешки образца сорок девятого года, лебяжий пух, легкие. Японские спальники отличные, но короткие. А наш ватник килограммов семь весит, не меньше. У убитых наемников мы забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых пах не натирает. Все брали. Трусы брали, так как трусы – дефицит, носки, кроссовки тоже. Приобрел я маленький фонарик, ножик-кинжальчик. Еще есть всегда хотелось… Голод! Стреляли диких баранов. Диким считался баран, отставший на пять метров от стада. Или меняли: два килограмма чая за одного барана. Чай трофейный. Деньги с боевых приносили, афгани. У нас их, кто чином повыше, отнимали. Тут же на наших глазах между собой делили. В патрон забьешь, сверху порохом присыплешь пару бумажек – спасешь.
Одни хотели напиться, другие выжить, третьи мечтали о наградах. Я тоже хотел награду. В Союзе встретят:
– Ну, что у тебя? Что, старшина, каптеркой заведовал?
Обидно за свою доверчивость. Замполиты нас убеждали в том, во что сами не верили.
Напутствие замполита перед возвращением домой: о чем можно говорить, о чем нет. О погибших нельзя, потому что мы большая и сильная армия. О неуставных отношениях не распространяться, потому что мы большая, сильная и морально здоровая армия. Фотографии порвать. Пленки уничтожить. Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы – большая, сильная и лучшая армия в мире…
На таможне забрал подарки, которые мы везли домой: парфюмерию, платки, часы.
– Не положено, ребята.
Никакой описи не составлялось. Просто это был их бизнес. Но так пахло зелеными весенними листьями… Шли девушки в легких платьях… Мелькнула в памяти и исчезла Светка Афошка (фамилии не помню – Афошка и Афошка). В первый день своего приезда в Кабул она переспала с солдатом за сто афошек, пока не разобралась. Через пару недель брала по три тысячи. Солдату не по карману. А Пашка Корчагин где? Настоящее его имя Андрей, но звали Пашкой из-за фамилии.
У Пашки-Андрея была девушка, она прислала фотографию своей свадьбы. Мы дежурили возле него ночами – боялись. Однажды утром он повесил на скале фотографию – и расстрелял из пулемета.
– Пашка, посмотри, какие девушки!
В поезде приснилось: готовимся к выходу на боевые, Сашка Кривцов спрашивает:
– Почему у тебя триста пятьдесят патронов, а не четыреста?
– Потому что у меня медикаменты.
Он помолчал и спросил:
– А ты мог бы расстрелять ту афганку?
– Ту, что навела нас на засаду. Помнишь, четверо погибли?
– Не знаю… Я, наверное, нет. В детском садике и в школе меня дразнили «бабником», девчонок защищал. А ты?
– Мне стыдно…
Он не успевает договорить, за что ему стыдно, я просыпаюсь.
Дома меня ждет телеграмма от Сашиной мамы: «Приезжай, Саша погиб».
Я стоял возле его могилы:
– Сашка, мне стыдно за то, что на выпускном экзамене по научному коммунизму я получил пятерку за критику буржуазной демократии. Провел сравнительный анализ. Ты меня понимаешь… Мы поехали в Афган слепые… Сейчас уже все говорят, что эта война – позор, а нам недавно вручили новенькие значки «Воин-интернационалист». Я молчал… Даже сказал: «Спасибо!». Сашка, ты там, а я здесь.
Мне надо с ним разговаривать…
Старшина, санинструктор разведроты
– Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, вес – два килограмма, рост тридцать сантиметров. Боялась в руках держать…
Прижму к себе:
– Мое ты солнышко…
Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы… Мы ему новое пальто купили. Это ему исполнилось четыре года… Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп… Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают. Он их собирает:
– Мамочка, ты не бойся. Они добрые. – И назад в карман запихивает.
– Мое ты солнышко.
Игрушки любил военные. Дарила ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому.
– Я солдат… Я солдат…
– Мое ты солнышко… Поиграй во что-нибудь мирное.
– Я – солдат…
Идти в первый класс, не можем нигде купить костюм, какой ни примеряем – он в нем тонет.
– Мое ты солнышко…
Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький. Рассказывал, что и туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: «Пришлите все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю…»
Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана: «Ты, мама, не плачь, наша броня надежная».
– Мое ты солнышко… Наша броня надежная…
Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Надела бы в могилку… Сама бы его одела, так не разрешили гроб открыть. Поглядеть на сыночка, дотронуться… Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит?
Первым пришел капитан из военкомата:
– Крепитесь, мать…
– Где мой сын?
– Здесь, в Минске. Сейчас привезут.
Я осела на пол:
– Мое ты солнышко!!! – Поднялась и набросилась с кулаками на капитана:
– Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный. А он маленький… Ты – мужчина, а он – мальчик. Почему ты живой?!
Привезли гроб, я стучалась в гроб:
– Мое ты солнышко! Мое ты солнышко!
А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:
– Мое ты солнышко…
Мать
– Положил в карман кусочек своей земли – родилось такое чувство в поезде…
У-ух! Война! Я буду воевать. Были, конечно, среди нас и трусы. Один парень не прошел комиссию по зрению, выскочил радостный: «Повезло!». За ним шел другой по очереди, и его тоже не взяли, он чуть не плакал: «Как я вернусь в свою часть? Меня две недели ребята провожали. Хотя бы язва желудка была, а то зубы болят». В одних трусах прорвался к генералу: из-за каких-то больных зубов не берут, так пусть вырвут эти два зуба!
У меня по географии в школе было «пять». Закрываю глаза и представляю: горы, обезьяны, мы где-то загораем, едим бананы… А было так. Нас посадили на танки: в шинелях, один пулемет – направо, другой – налево, задняя машина, которая замыкает, – пулемет назад, все бойницы открыты, автоматы высунуты. Железный еж какой-то. Встречаем два наших бэтээра – ребята на броне сидят, в тельняшках, в панамах, смотрят на нас, со смеху давятся. Увидел убитого наемника, был потрясен. Как тренирован! – атлет. А я попал в горы и не знал, как ступить на камень, что начинать надо с левой ноги. Десять метров по отвесной скале нес телефон… Когда взрыв, закрывал рот, а надо открывать – перепонки лопаются. Нам выдали противогазы. В первый же день мы их выбросили, химоружия у «духов» нет. Каски свои в дукане продали. Лишний груз на башке, нагреваются, как сковородки. У меня была одна проблема: где украсть дополнительный рожок с патронами? Выдали четыре рожка, пятый купил в первую получку у товарища, шестой подарили. В бою достаешь последний рожок и последний патрон – в зубы. Это для себя.
Мы приехали социализм строить, а нас оградили колючей проволокой: «Ребята, туда нельзя. За социализм агитировать не надо, для этого специальные люди есть». Обидно, конечно, что не доверяют. Говорю с дуканщиком:
– Ты неправильно жил. Мы сейчас тебя научим. Будем социализм строить.
Он улыбается:
– Я до революции торговал и сейчас торгую. Поезжай домой. Это наши горы. Сами разберемся…
Едем по Кабулу, женщины бросают в наши танки палками, камнями. Бачата ругаются матом без акцента, кричат: «Русский, уезжай домой».
Зачем мы здесь?
…Стреляли из гранатомета. Я успел развернуть пулемет, это меня спасло. Снаряд в грудь летел, а так – одну руку прошило, в другую ушли все осколки. Помню: такое мягкое, приятное ощущение… И никакой боли… И крик где-то надо мной: «Стреляй! Стреляй!». Нажимаю, а пулемет молчит, потом смотрю – рука висит, вся обгорела, было чувство, что я пальцем нажимаю, а пальцев нет…
Сознание не потерял, выполз вместе со всеми из машины, мне наложили жгут. Надо идти, ступил два шага и упал. Потерял где-то полтора литра крови. Слышу:
– Нас окружают…
Кто-то сказал:
– Надо его бросать, а то все погибнем.
Я просил:
– Пристрелите меня…
Один парень сразу отошел, второй автомат передернул, но медленно. А когда медленно, патрон может стать на перекос. И вот патрон стал на перекос, он автомат бросает:
– Не могу! На, сам…
Я подтянул автомат к себе, но одной рукой ничего не сделаешь.
Мне повезло: там был овражек маленький, я в нем за камнями лежал. Меня прикрывал гладкий большой валун. Душманы ходят рядом и не видят. Мысль: как только они меня обнаружат, надо чем-то себя убить. Нащупал один камень, подтянул к себе, примерился…
Утром меня нашли наши. Те двое, что ночью сбежали, несли меня на бушлате. Понял: боятся, чтобы я не рассказал правду. А мне уже было все равно. В госпитале положили сразу на стол. Подошел хирург: «Ампутация…». Проснулся, почувствовал, что руки у меня нет… Там разные лежали: без одной руки, без обеих рук, без ноги. Плакали втихаря. И в пьянку ударялись. Я стал учиться держать карандаш левой рукой.
Приехал домой к деду, больше никого у меня нет. Бабка в плач: внук любимый без руки остался. Дед на нее прикрикнул: «Не понимаешь политики партии». Знакомые встречают:
– Дубленку привез? Магнитофон японский привез? Ничего не привез… Был ли ты в Афганистане?
Мне бы автомат привезти!
Стал своих ребят искать. Он был там, я был там – у нас один язык. Свой язык. Мы понимаем друг друга. Вызывает меня ректор: «Мы тебя в институт с тройками приняли, стипендию дали. Не ходи к ним… Зачем вы на кладбище собираетесь? Беспорядок». Нам первое время не разрешали собираться вместе. Нас боялись, мол, слухи нездоровые распространяем. Шумок. Ну а если мы организуемся, то будем воевать за свои права. Нам придется давать квартиры, мы заставим помогать матерям тех ребят, которые лежат в могилах. Потребуем поставить памятники, ограды на этих могилах. А кому это, скажите, надо? Нас уговаривали: ребята, вы не очень распространяйтесь о том, что было, что видели. Государственная тайна! Сто тысяч солдат в чужой стране – тайна. Даже какая жара в Кабуле – тайна…
Война не делает человека лучше. Только хуже. Это однозначно. Я никогда не вернусь в тот день, когда ушел на войну. Не стану тем, кем был до войны. Как я могу стать лучше, если я видел… как за чеки покупают у медиков два стакана мочи желтушника. Выпил. Заболел. Комиссовали. Как отстреливают себе пальцы. Как уродуют себя затворами пулеметов. Как… Как… Как в одном самолете возвращаются домой цинковые гробы и чемоданы с дубленками, джинсами, женскими трусиками… Китайским чаем…
Раньше у меня дрожали губы при слове «Родина». Теперь я другой. Бороться за что… За что бороться? Воевали – воевали. Ну и нормально. А, может, и за дело воевали? У нас каждое поколение получает свою войну. Газеты напишут, что все правильно. И будет правильно. А с другой стороны, начинают писать, что мы убийцы. Кому верить? Я не знаю. Я никому не верю уже. Газеты? Я их не читаю. И даже их не выписываю. Сегодня мы одно пишем, завтра другое. Время такое… Перестройка. Много правд… А где одна, моя правда? Вот есть друзья. Одному, двум, трем – верю. Могу во всем положиться. А больше – никому. Я уже шесть лет здесь, я все это вижу…
Дали мне инвалидную книжечку – положены льготы! Подхожу к кассе для участников войны:
– Ты куда, пацан? Перепутал.
Зубы стисну, молчу. За спиной:
– Я Родину защищал, а этот…
Незнакомый кто спросит:
– Где рука?
– По пьянке под электричку попал. Отрезало.
Тогда понимают. Жалеют.
У Валентина Пикуля в романе: «Честь имею (Исповедь офицера российского Генштаба)» недавно прочел: «Сейчас (имеются в виду позорные последствия русско-японской войны 1905 года) многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешке. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить свой мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу отрезало на углу Невского и Литейного трамваем, а к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют». Скоро о нас так напишут…
Мне кажется, что теперь я могу даже Родину поменять. Уехать.
Рядовой, связист
– Сам просился… Мечтал попасть на эту войну… Было интересно…
Представлял себе, как там. Хотел узнать, что это такое, когда у тебя одно яблоко и двое друзей, ты голодный, и они голодные, и ты это яблоко отдаешь. Я думал, что там все дружат, что там все братья. За этим туда ехал.
Вышел из самолета, таращусь на горы, а дембель (в Союз уже парень летел) в бок толкает:
– Давай ремень.
– Чего?! – Ремень у меня был свой, фарцовый.
– Дурак, все равно заберут.
Забрали в первый же день. А я думал: «Афганистан – это когда все дружат». Идиот! Молодой солдат – это вещь. Его можно поднять ночью и бить, колотить стульями, палками, кулаками, ногами. Его можно ударить, избить в туалете днем, забрать рюкзак, вещи, тушенку, печенье (у кого есть, кто привез). Телевизора нет, радио нет, газет нет. Развлекались по закону слабого и сильного. «Постирай, чижик, мне носки», – это еще ничего, а вот другое: «А ну-ка, чижик, оближи мне носки. Оближи хорошенько, да так, чтобы все видели». Жара под шестьдесят градусов, ходишь и шатаешься… Тебя носит в разные стороны… Но во время боевых операций «деды» шли впереди, прикрывали нас. Спасали. Это правда. Вернемся в казарму: «А ну-ка, чижик, оближи мне носки…».
А это страшнее, чем первый бой… Первый бой – интересно! Смотришь как художественное кино. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут, а оказалось – выдумка. Не идут, а бегут, бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил, а сил тогда у человека – как у сумасшедшего, и петляешь, как бешеный заяц. Раньше любил парады на Красной площади, военную технику. Любил это… Теперь знаю: восхищаться этим нельзя, скорее бы эти танки, бронетранспортеры, автоматы поставили на место, зачехлили. Скорее бы! Потому что это все для того, чтобы человека уничтожить… В пыль его! В глину! Такого, как ты… Еще лучше – пройти по Красной площади всем афганским «протезникам»… Я бы пошел… Смотрите! У меня обе ноги выше колена отрезаны… Если б ниже колен… Удача! Я был бы счастливым человеком. Я завидую тем, у кого ниже колен… После перевязок дергаешься час-полтора, такой маленький вдруг становишься без протезов. Лежишь в плавках и в тельняшке десантника, тельняшка получается с тебя ростом. Первое время никого к себе не подпускал. Молчал. Ну, хотя бы одна нога осталась, а то ни одной. Самое трудное забыть, что у тебя были две ноги… Из четырех стен хочется выбрать одну – ту, где окно.
Матери поставил ультиматум: «Если будешь плакать, ехать не надо». Я и там больше всего боялся: убьют меня, привезут домой – мать будет плакать. После боя раненого жалко, а убитого нет, только маму его жалко. В госпитале хочу сказать нянечке спасибо, а не могу, даже слова забыл.
– В Афганистан опять пошел бы?
– Почему?
– Там друг – друг, а враг – враг. А тут – постоянный вопрос: за что погибли мои друзья? За этих сытых спекулянтов? Чиновников? Или молодых пофигистов, которым все до лампочки. Была бы банка пива с утра. Здесь все не так. Чувствую себя посторонним. Чужаком.
Учусь ходить. Сзади меня подсекут. Упал. «Спокойствие, – говорю себе. – Команда первая – поворачивайся и выжимайся на руках, команда вторая – вставай и иди». Первые месяцы правильней бы было – не иди, а ползи. Полз. Самая яркая картинка оттуда: черный мальчишка с русским лицом… Там их много. Ведь мы там с семьдесят девятого года… Семь лет. Я туда поехал бы. Обязательно! Если бы не две ноги выше колена… Хотя бы ниже колена.
Я туда поехал бы…
Рядовой, минометчик
– Я сам себя спрашивал: почему я оказался там?
Ответов сто… Но главный – вот в этих стихах, не запомнил только, чьи они… Может, кто-то из наших ребят сочинил?
Конец ознакомительного фрагмента
Светлана Алексиевич
Цинковые мальчики
Вечный человек с ружьём
…Лежит на земле человек, убитый другим человеком… Не зверем, не стихией, не роком. Другим человеком… В Югославии, Афганистане, Таджикистане… В Чечне…
Иногда мелькает страшная мысль о войне и её тайном смысле. Кажется, что все сошли с ума, оглядываешься – мир вокруг вроде бы нормальный: люди смотрят телевизор, спешат на работу, едят, курят, чинят обувь, злословят, сидят на концертах. В нашем сегодняшнем мире ненормален, странен не тот, кто надел на себя автомат, а другой, тот, кто, как ребёнок, спрашивает, не понимая: почему же снова лежит на земле человек, убитый другим человеком?
Помните, у Пушкина: «Люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». Это XIX век.
«Даже уничтожив запасы всеобщей смерти, люди сохранят знание, как их снова создать, хода – к незнанию, неумению убить всех и вся – уже нет». Это у Алеся Адамовича. Это XX век.
Искусство веками возвеличивало бога Марса – бога войны. И теперь никак не содрать с него кровавых одежд…
Вот один из ответов, почему я пишу о войне.
Вспоминается, как у нас в деревне на Радуницу (день поминовения) уткнулась коленками в заросший холмик старушка – без слов, без слез, даже молитвы не читала. «Отойди девочка, не надо на это смотреть, – отвели меня в сторону деревенские женщины. – Не надо тебе знать, никому не надо». Но в деревне не бывает тайн, деревня живёт вместе. Потом я все-таки узнала: во время партизанской блокады, когда вся деревня пряталась от карателей в лесу, в болотах, пухла от голода, умирала от страха, была со всеми эта женщина с тремя маленькими девочками. В один из дней стало очевидным: или умрут все четверо, или кто-то спасётся. Соседи ночью слышали, как самая меньшая девочка просила: «Мамочка, ты меня не топи, я у тебя есточки просить не буду…»
Оставались зарубки в памяти…
В одной из моих поездок… Маленькая женщина, кутавшаяся летом в пуховую шаль и быстро-быстро выговаривающая, вышептывающая: «Не хочу говорить, не хочу вспоминать, я очень долго после войны, десятки лет, не могла ходить в мясные магазины, видеть разрезанное мясо, особенно куриное, оно напоминало мне человеческое, ничего из красной ткани шить не могла, я столько крови видела, не хочу вспоминать, не могу…»
Я не любила читать книги о войне, а написала три книги. О войне. Почему? Живя среди смерти (и разговоров, и воспоминаний), невольно гипнотизируешься пределом: где он, что за ним. И что такое человек, сколько человека в человеке – вопросы, на которые я ищу ответы в своих книгах. И, как ответил один из героев «Цинковых мальчиков»: «Человека в человеке немного, вот что я понял на войне, в афганских скалах». А другой, уже старый человек, в сорок пятом расписавшийся на поверженном рейхстаге, мне написал: «На войне человек ниже человека; и тот, кто убивает справедливо, и тот, кто убивает несправедливо. Все это одинаково похоже на обыкновенное убийство». Я с ним согласна, для меня уже невозможно написать о том, как одни люди героически убивают других… Люди убивают людей…
Но наше зрение устроено таким образом, что ещё до сих пор, когда мы говорим или пишем о войне, то для нас это прежде всего образ Великой Отечественной, солдата сорок пятого. Нас так долго учили любить человека с ружьём… И мы его любили. Но после Афганистана и Чечни война – уже что-то другое. Что-то такое, что для меня, например, поставило под сомнение многое из того, что написано (и мной тоже). Все-таки мы смотрели на человеческую природу глазами системы, а не художника…
Война – это тяжёлая работа, постоянное убийство, человек все время вертится возле смерти. Но проходит время, десятки лет, и он вспоминает только о тяжёлой работе: как не спали по трое – четверо суток, как таскали все на себе вместо лошади, как плавились без воды в песках или вмерзали в лёд, а об убийстве никто не говорит. Почему? У войны кроме смерти есть множество других лиц, и это помогает стереть главное, потаённое – мысль об убийстве. А её легко спрятать в мысль о смерти, о героической гибели. Отличие смерти от убийства – это принципиально. В нашем же сознании это соединено.
И я вспоминаю старую крестьянку, рассказывающую, как девочкой она сидела у окна и увидела, как в их саду молодой партизан бил наганом по голове старого мельника. Тот не упал, а сел на зимнюю землю, с головой, рассечённой, как капуста.
«И я тогда обожеволила, сошла с ума, – говорила и плакала она. – Меня долго мама с папой лечили, по знахарям водили. Как увижу молодого парня, кричу, в лихорадке бьюсь, вижу ту голову старого мельника, рассечённую, как капуста. Так замуж и не вышла… Я боялась мужчин, особенно молодых…»
© Светлана Алексиевич, 2013
© «Время», 2013
Двадцатого января тысяча восемьсот первого года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Вскоре тридцать тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в Казахские степи…
В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. М.: Мысль, 1988, с. 475
В декабре 1979 г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Война продолжалась с 1979 по 1989 г. Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ограниченного контингента советских войск. Общие людские потери Советских Вооруженных сил составили 15051 человек. Пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих. По состоянию на 2000 г. в числе не вернувшихся из плена и не разысканных оставалось 287 человек…
Полит. ру, 19 ноября 2003
Пролог
– Я иду одна… Теперь мне долго предстоит идти одной…
Он убил человека… Мой сын… Кухонным топориком, я им мясо разделывала. Вернулся с войны и тут убил… Принес и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила… Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп… По кускам… Звонит мне подруга:
– Читала? Профессиональное убийство… Афганский почерк…
Сын был дома, лежал на диване, книжку читал. Я еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него… Материнское сердце…
Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинаю об этом рассказывать, слышу собачий лай. Как собаки бегут… Там в тюрьме, где он сейчас сидит, большие черные овчарки… И люди все в черном, только в черном… Вернусь в Минск, иду по улице, мимо хлебного магазина, детского садика, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай. Оглушающий лай. Я от него слепну… Один раз чуть под машину не попала…
Я готова ходить к могильному холмику своего сына… Готова рядом там с ним лежать… Но я не знаю… Я не знаю, как с этим мне жить… Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал… Вы не слышите? Ничего не слышите… Нет?!
Сейчас я не знаю, какой он, мой сын. Какого я его получу через пятнадцать лет? Ему пятнадцать лет строгого режима дали… Как я его воспитывала? Он увлекался бальными танцами… Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили. Книжки вместе читали… (Плачет.) Это Афганистан отнял у меня сына…
…Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолет такой-то… Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: «Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!» – И потеряла сознание. В аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зеленая. Не верил, что вернулся… Но радости у него на лице не было…
Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил ее к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали. И он… Это я потом поняла.
На границе таможенники «срезали» у него плавки импортные. Американские. Не положено… Так что он приехал без белья. Вез для меня халат, мне в тот год исполнилось сорок лет, халат у него забрали. Вез бабушке платок – тоже забрали. Он приехал только с цветами. С гладиолусами. Но радости у него на лице не было.
Утром встает еще нормальный: «Мамка! Мамка!» К вечеру лицо темнеет, глаза тяжелые… Не опишу вам… Сначала не пил ни капли… Сидит и в стенку смотрит. Сорвется с дивана, за куртку…
Стану в дверях:
– Ты куда, Валюшка?
Он на меня глянет, как в пространство. Пошел.
Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну ладно голоса друзей не узнает, но мой! Тем более «Валюшка» – только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стала примерять, смотрю: у него руки в порезах.
– Что это?
– Мелочь, мамка.
Потом уже узнала. После суда… В «учебке» вскрывал себе вены… На показательном учении он был радист, и не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета пятьдесят ведер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание. В госпитале поставили диагноз: легкое нервное потрясение. Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены. Второй раз в Афганистане… Перед тем, как им идти в рейд, проверили: рация не работала. Пропали дефицитные детали, кто-то из своих стащил… Кто? Командир обвинил его в трусости, как будто это он детали спрятал, чтобы не идти вместе со всеми. А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики… Наркотики, сигареты. Еду. Они вечно ходили голодные.
По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели.
– Мама, – спросил он меня, – а ты знаешь, что такое наркотики?
– Нет, – сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не покуривает ли?
Никаких следов. Но там они наркотики употребляли – это я знаю.
– Как там в Афганистане? – спросила однажды.
– Молчи, мамка!
Когда он уходил из дому, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит. Мне вернули другого человека… Это был не мой сын. А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка. Я хотела, чтобы он стал мужественным. Убеждала его и себя, что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой, устроила на прощание сладкий стол. Он друзей своих позвал, девочек… Помню, десять тортов купила.
Один только раз он заговорил об Афганистане. Под вечер… Заходит на кухню, я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее. Разглядывает. И сам себе говорит:
– Привозят друга с перебитым животом… Он просит, чтобы я его пристрелил… И я его пристрелил…
Пальцы в крови… От кроличьего мяса, оно свежее… Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон. Больше со мной в этот вечер ни слова.
Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите! Все рассказала… Проверяли они его, смотрели, но кроме радикулита у него ничего не нашли.
Прихожу раз домой: за столом – четверо незнакомых ребят.
– Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашел. Им ночевать негде.
– Я вам сладкий пирог сейчас испеку. Мигом. – Почему-то обрадовалась я.
Они жили у нас неделю. Не считала, но думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома пятерых незнакомых людей. Пятым был мой сын… Я не хотела слушать их разговоры, пугалась. Но в одном же доме… Нечаянно подслушала… Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее. Но это все в тайне хранится. Каким оружием лучше убивать… С какого расстояния… Потом я это вспомнила, когда всё случилось… Я потом стала думать, лихорадочно вспоминать. А до того был только страх: «Ой, – говорила я себе, – они все какие-то сумасшедшие. Все ненормальные».
Ночью… Перед тем днем… Когда он убил… Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет. И вот его мне приводят… Приводят те четыре «афганца». И бросают на грязный цементный пол. Вы понимаете, в доме цементный пол… У нас на кухне… Пол – как в тюрьме.
К этому времени он уже поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливый был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается. Пойдет учиться. Женится. Но наступит вечер… Я боялась вечера… Он сидит и тупо в стенку смотрит. Заснет в кресле… Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать. А теперь мне снится сын: он маленький и просит кушать… Он все время голодный. Руки тянет… Всегда во сне вижу его маленьким и униженным. А в жизни?! Раз в два месяца – свидание. Четыре часа разговора через стекло…
В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить. И этот лай собак… Мне снится этот лай собак. Он гонит меня отовсюду.
За мной стал ухаживать один мужчина… Цветы принес… Когда он принес мне цветы: «Отойдите от меня, – стала кричать, – я мать убийцы». Первое время я боялась кого-нибудь из знакомых встретить, в ванной закроюсь и жду, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: «Помните, тот жуткий случай… Это ее сын убил. Четвертовал человека. Афганский почерк…». Я выходила на улицу только ночью, всех ночных птиц изучила. Узнавала по голосам.
Шло следствие… Шло несколько месяцев… Он молчал. Я поехала в Москву в военный госпиталь Бурденко. Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он. Открылась им…
– Ребята, за что мой сын мог убить человека?
– Значит, было за что.
Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать… Убить… Долго их выспрашивала и поняла: мог! Спрашивала о смерти… Нет, не о смерти, а об убийстве. Но этот разговор не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие любое убийство обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили о войне как о работе, на которой надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане, и когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало, я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти? Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Разорванные… расплющенные… черепа, кости… Похороненные под землей целые школы… Классы… Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю. А они вспоминали и рассказывали о другом; какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили. Шутили: пусть бы еще где-нибудь тряхануло. Но чтобы в теплом месте, где виноград растет и делают хорошее вино… Они что – здоровые? У них нормальная психика?
«Я его мертвого ненавижу». Это он мне недавно написал. Через пять лет… Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот парень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал…
На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых – не преступник, а больной. Его надо лечить. Но тогда, это семь лет назад, тогда правды об Афганистане еще не было. Их всех называли героями. Воинами-интернационалистами. А мой сын был убийца… Потому что он сделал здесь то, что они делали там. За что им там медали и ордена давали… Почему же его одного судили? Не судили тех, кто его туда послал? Научил убивать! Я его этому не учила… (Срывается и кричит.)
Он убил человека моим кухонным топориком… А утром принес и положил его в шкафчик. Как обыкновенную ложку или вилку…
Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног… Пусть он ее ненавидит, когда напьется. Весь мир ненавидит… Пусть бросается на нее, как зверь. Она покупает ему проституток, чтобы он не сошел с ума… Сама один раз ему любовницей стала, потому что он лез на балкон, хотел выброситься с десятого этажа. Я на все согласна… Я всем матерям завидую, даже тем, у кого сыновья в могилах лежат. Я сидела бы возле холмика и была счастлива. Носила бы цветы.
Вы слышите лай собак? Они за мной бегут. Я их слышу…
Из записных книжек (на войне)
Июнь 1986 года
Я не хочу больше писать о войне… Опять жить среди «философии исчезновения» вместо «философии жизни». Собирать бесконечный опыт не-бытия. Когда закончила «У войны не женское лицо», долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь, убегала на отдыхе от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из далеких глубин рыбу, меня тошнило от ее застывших выпученных глаз. У каждого есть свой запас сил, чтобы защититься от боли – физический и психологический, мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка. Высохшей на дороге лягушки… Думалось не раз, что животные, птицы, рыбы тоже имеют право на свою историю страдания. Ее когда-нибудь напишут.
И вдруг! Если это можно назвать «вдруг». Идет седьмой год войны… Но мы ничего о ней не знаем, кроме героических телерепортажей. Время от времени нас заставляют встрепенуться привезенные издалека цинковые гробы, не вмещающиеся в пенальные размеры «хрущевок». Отгремят скорбные салюты – и снова тишина. Наша мифологическая ментальность незыблема – мы справедливые и великие. И всегда правы. Горят-догорают последние отблески идей мировой революции… Никто не замечает, что пожар уже дома. Загорелся собственный дом. Началась горбачевская перестройка. Рвемся навстречу новой жизни. Что нас самих ждет впереди? На что окажемся способны после стольких лет искусственного летаргического сна? А наши мальчики где-то далеко неизвестно за что погибают…
О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге и геополитике, о наших державных интересах и южных границах. И этому верят. Верят! Матери, еще недавно в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, в которых им вернули сыновей, выступают в школах и военных музеях, призывая других мальчиков «выполнить свой долг перед Родиной». Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас уверяют, что «ограниченный контингент» советских войск помогает братскому народу строить мосты, дороги, школы, развозить удобрения и муку по кишлакам, а советские врачи принимают роды у афганских женщин. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать.
С одним долго говорила… Я хотела услышать о мучительности этого выбора – стрелять или не стрелять? А для него тут как бы – никакой драмы. Что хорошо? Что плохо? Хорошо «во имя социализма» убить? Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом. Правда, о смерти они говорят осторожнее, чем мы. Тут сразу обнаруживается расстояние между нами.
Как одновременно переживать историю и писать о ней? И нельзя любой кусок жизни, всю экзистенциальную «грязь» взять за шиворот и втащить в книгу. В историю. Надо «проломить время» и «уловить дух».
«У существующей печали сто отражений» (В. Шекспир. Ричард III).
…На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом, рядом с ним худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулевку, копал вилкой в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсели к ним деревенские женщины, выспросили: куда, зачем, кто? Офицер сопровождал домой солдата, сошедшего с ума: «С Кабула копает, что попадет в руки, тем и копает: лопатой, вилкой, палкой, авторучкой». Мальчишка поднял голову: «Прятаться надо… Я вырою щель… У меня быстро получается. Мы называли их братскими могилами. Большую щель для всех вас выкопаю…»
Первый раз я увидела зрачки величиной с глаз…
Я стою на городском кладбище… Вокруг сотни людей. В центре – девять гробов, обшитых красным ситцем. Выступают военные. Взял слово генерал… Женщины в черном плачут. Люди молчат. Только маленькая девочка с косичками захлебывается над гробом: «Папа! Па-а-почка!! Где ты? Ты обещал мне куклу привезти. Красивую куклу! Я нарисовала тебе целый альбом домиков и цветочков… Я тебя жду…». Девочку подхватывает на руки молодой офицер и уносит к черной «Волге». Но мы еще долго слышим: «Папа! Па-а-а-почка… Любимый па-а-почка…»
Генерал выступает… Женщины в черном плачут. Мы молчим. Почему мы молчим?
Я не хочу молчать… И не могу больше писать о войне.
Сентябрь 1988 года
Ташкент. В аэропорту душно, пахнет дынями, не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Бесстрашно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят, афганские. Среди загоревшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты (мальчишки). На них никто не обращает внимания, уже привыкли. Они спят и едят тут же на полу, на старых газетах и журналах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Киев… Где их искалечили? Что они там защищали? Никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз, и пьяная нищенка подошла к одному солдатику:
– Поди сюда… Пожалею…
Он отмахнулся костылем. А она, не обидевшись, добавила еще что-то печальное и женское.
Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы. О брюшном тифе, холере, малярии и гепатите. Как в первые годы войны не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было даже мыть посуду. А еще о том, кто что привез: кто – «видик», кто магнитофон – «Шарп» или «Сони». Запомнилось, какими глазами они смотрели на красивых, отдохнувших женщин в открытых платьях…
Долго ждем военный самолет на Кабул. Говорят, что сначала загрузят технику, а потом людей. Ждет человек сто. Все – военные. Неожиданно много женщин.
Отрывки из разговоров:
– Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Последствие контузии в голову… Овсяницу, например, не слышу начисто. Записал ее на магнитофон и запускаю на полную мощность…
– Сначала стреляешь, а потом выясняешь, кто это – женщина или ребенок? У каждого свой кошмар…
– Ослик во время обстрела ложится, кончится обстрел – вскакивает.
– Кто мы в Союзе? Проститутки? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать. А мужики? Что мужики? Все пьют.
– Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался: «Возьмите им леденцов. Это же дети. Лучший подарок – конфеты».
– Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу: заплакал. Лицо как у девочки – румяное, белое. Я сначала боялась мертвых, особенно если без ног или без рук. А потом привыкла…
– Берут в плен. Отрезают конечности и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют, наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их насильно лечат. А они после госпиталя не хотят возвращаться домой.
– На таможне увидели мой пустой саквояж: «Что везешь?» – «Ничего». – «Ничего?» Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут по два-три чемодана.
В самолете мне досталось место возле привязанного цепями бронетранспортера. К счастью, майор возле меня оказался трезвым, все остальные вокруг были пьяны. Неподалеку кто-то спал на бюсте Маркса (портреты и бюсты социалистических вождей навалили без упаковок), везли не только оружие, но и набор всего необходимого для советских ритуалов. Лежали красные флаги, красные ленточки…
Вой сирены…
– Вставайте. А то проспите царство небесное. – Это уже над Кабулом.
Идем на посадку.
… Гул орудий. Патрули с автоматами и в бронежилетах требуют пропуска.
Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне. Всюду люди войны, вещи войны. Время войны.
Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в столовую, поздоровались с часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика…
Журналистов здесь называют сказочниками. Писателей тоже. В нашей писательской группе одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю у одного:
– Мне это интересно. Скажу: на Саланге был. Постреляю.
Не могу отделаться от чувства, что война – порождение мужской природы, во многом для меня непостижимое. Но будничность войны грандиозна. У Аполлинера: «Ах, как красива война».
На войне все другое: и ты, и природа, и твои мысли. Тут я поняла, что человеческая мысль может быть очень жестока.
Спрашиваю и слушаю везде: в солдатской казарме, столовой, на футбольном поле, вечером на танцах – неожиданные тут атрибуты мирной жизни:
– Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: «Первый». После боя – раненые и убитые. Все молчат… Мне снятся здесь трамваи. Как я на трамвае еду домой… Любимое воспоминание: мама печет пироги. В доме пахнет сладким тестом…
– Дружишь с хорошим парнем… А потом видишь, как его кишки на камнях висят. Начинаешь мстить.
– Ждем караван. В засаде два-три дня. Лежим в горячем песке, ходим под себя. К концу третьего дня сатанеешь. И с такой ненавистью выпускаешь первую очередь. После стрельбы, когда все кончилось, обнаружили: караван шел с бананами и джемом. На всю жизнь сладкого наелись…
– Взяли в плен «духов»… Допытываемся: «Где военные склады?» Молчат. Подняли двоих на вертолетах: «Где? Покажи». Молчат. Сбросили одного на скалы…
– Заниматься любовью на войне и после войны – это не одно и то же… На войне все как в первый раз …
– «Град» стреляет… Мины летят… А над всем этим стоит: жить! жить! жить! Но ты ничего не знаешь и не хочешь знать о страданиях другой стороны. Жить – и все. Жить!
Написать (рассказать) о самом себе всю правду есть, по замечанию Пушкина, невозможность физическая.
На войне человека спасает то, что сознание отвлекается, рассеивается. Но смерть вокруг нелепая, случайная. Без высших смыслов.
…На танке красной краской: «Отомстим за Малкина».
Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребенком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери.
Проезжали мимо убитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мертвая глина недавнего человеческого жилища была страшнее темноты, из которой могли выстрелить.
В госпитале я положила плюшевого мишку на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь, обеих рук у него не было. «Твои русские стреляли, – перевели мне слова его матери. – А у тебя есть дети? Кто? Мальчик или девочка?» Я так и не поняла, чего больше в ее словах – ужаса или прощения?
Рассказывают о жестокости, с которой моджахеды расправляются с нашими пленными. Похоже на средневековье. Здесь и в самом деле другое время, календари показывают четырнадцатый век.
У Лермонтова, в «Герое нашего времени» Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав», – хотя с точки зрения русского поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную русскую черту – умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и «по-ихнему».
А сейчас…
Изо дня в день вижу, как человек скользит вниз. И редко – вверх.
У Достоевского Иван Карамазов замечает: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».
Да, я подозреваю: мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом знать. Но на любой войне, кто бы ее и во имя чего ни вел – Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, – люди убивают друг друга. Это убийство, но об этом у нас не принято задумываться, даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о военно-патриотическом воспитании. Хотя почему я удивляюсь? Все понятно – военный социализм, военная страна, военное мышление.
Нельзя так испытывать человека. Человек не выдерживает таких испытаний. В медицине это называется «острым опытом». Опытом на живом.
Вечером в солдатском общежитии напротив гостиницы включили магнитофон. Я тоже слушала «афганские» песни. Детские, еще не сформировавшиеся голоса хрипели под Высоцкого: «Солнце упало в кишлак, как огромная бомба», «Мне не надо славы. Нам бы жить – и вся награда», «Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают?», «Вот уже и лица стал я забывать», «Афганистан, ты больше, чем наш долг. Ты – наше мирозданье», «Как большие птицы, скачут одноногие у моря», «Мертвый, он уже ничей. Нет уже ненависти на его лице».
Ночью мне снился сон: наши солдаты уезжают в Союз, я – среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке, он без языка, немой. После плена. Из-под солдатского кителя торчит госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только свое имя пишет: «Ванечка… Ванечка…». Так ясно различаю его имя – Ванечка… Лицом похож на паренька, с которым днем беседовала, он все повторял: «Меня мама дома ждет».
Проезжали по замершим улочкам Кабула, мимо знакомых плакатов в центре города: «Светлое будущее – коммунизм», «Кабул – город мира», «Народ и партия едины». Наши плакаты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой…
Познакомилась с кинооператорами из Москвы.
Они снимали загрузку «черного тюльпана». Не поднимая глаз, рассказывают, что мертвых одевают в старую военную форму сороковых годов, еще с галифе, иногда кладут, не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди… «В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет».
Кто мне поверит, если я об этом напишу?
Видела бой…
Три солдата убиты… Вечером все ужинали, о бое и о мертвых не вспоминали, хотя они лежали где-то рядом.
Право человека не убивать. Не учиться убивать. Оно ни в одной конституции не записано.
Война – мир, а не событие… Все здесь другое: и пейзаж, и человек, и слова. Запоминается театральная часть войны: разворачивается танк, звучат команды… Светящиеся пути пуль в темноте…
Думать о смерти – как думать о будущем. Что-то происходит со временем, когда думаешь о смерти и видишь ее. Рядом со страхом смерти – притягательность смерти…
Ничего не надо придумывать. Отрывки великих книг всюду. В каждом.
В рассказах (нередко!) поражает агрессивная наивность наших мальчиков. Недавних советских десятиклассников. А я хочу от них добиться диалога человека с человеком в себе.
А все-таки? На каком языке мы говорим сами с собой, с другими? Мне нравится язык разговорной речи, он ничем не обременен, выпущен на волю. Все гуляет и празднует: синтаксис, интонация, акценты, и – восстанавливается в точности чувство. Я слежу за чувством, а не за событием. Как развивались наши чувства, а не события. Может быть, то что я делаю, похоже на работу историка, но я историк бесследного. Что происходит с большими событиями? Они перекочевывают в историю, а вот маленькие, но главные для маленького человека, исчезают бесследно. Сегодня один мальчик (из-за своей хрупкости и болезненного вида мало похожий на солдата) рассказывал, как непривычно и в то же время азартно убивать вместе. И как страшно расстреливать.
Разве это останется в истории? С отчаянием занимаюсь (от книги к книге) одной и той же работой – уменьшаю историю до человека.
Думала о невозможности писать книгу о войне на войне. Мешают жалость, ненависть, физическая боль, дружба… И письмо из дома, после которого так хочется жить… Рассказывают, что когда убивают, стараются не смотреть в глаза даже верблюду. Тут атеистов нет. И все суеверны.
Меня упрекают (особенно офицеры, солдаты реже), что я, мол, сама не стреляла и меня не брали на мушку – как же я могу написать о войне? А, может, это и хорошо, что я не стреляла?
Где тот человек, которому сама мысль о войне приносит страдание? Я его не нахожу. Но вчера возле штаба лежала мертвая незнакомая птица. И странно… Военные подходили к ней, пытались угадать – кто это? Жалели.
Есть какое-то вдохновение на мертвых лицах… Никак не могу привыкнуть и к безумию обыкновенного на войне – вода, сигареты, хлеб… Особенно когда мы уходим из гарнизона и поднимаемся в горы. Там человек один на один с природой и случаем. Пролетит пуля мимо или не пролетит? Кто выстрелит первым – ты или он? Там начинаешь видеть человека из природы, а не из общества.
А в Союзе по телевизору показывают, как сажают аллеи дружбы, которых никто из нас здесь не встречал и не сажал…
Достоевский в «Бесах»: «Убеждение и человек – это, кажется, две вещи во многом различные… Все виноваты… если бы в этом все убедились!». И у него же такая мысль, что человечество знает о себе больше, гораздо больше, чем оно успело зафиксировать в литературе, в науке. Он говорил, что это мысль не его, а Вл. Соловьева.
Если бы я не читала Достоевского, я была бы в большем отчаянии…
Где-то далеко работает установка «Град». Жутко даже на расстоянии.
После великих войн ХХ века и массовых смертей, чтобы писать о современных (маленьких) войнах, таких как афганская, нужны другие этические и метафизические позиции. Должно быть востребовано маленькое, личное и отдельное. Один человек. Для кого-то единственный. Не как государство относится к нему, а кто он для матери, для жены. Для ребенка. Как нам вернуть себе нормальное зрение?
Мне интересно и тело, человеческое тело, как связь между природой и историей, между животным и речью. Все физические подробности важны: как меняется кровь на солнце, человек перед уходом… Жизнь немыслимо художественна сама по себе, и, как это ни жестоко звучит – особенно художественно человеческое страдание. Темная сторона искусства. Вот вчера я видела, как собирали по кусочкам ребят, подорвавшихся на противотанковой мине. Могла не пойти смотреть, но пошла, чтобы написать. Теперь пишу…
А все-таки: надо ли было идти? Я слышала, как офицеры посмеивались за моей спиной: испугается, мол, барышня. Я пошла и ничего героического в этом не было, потому что я там упала в обморок. То ли от жары, то ли от потрясения. Хочу быть честной.
Поднялась на вертолете… Сверху увидела сотни заготовленных впрок цинковых гробов, красиво и страшно блестевших на солнце…
Столкнешься с чем-нибудь подобным и сразу мысль: литература задыхается в своих границах… Копированием и фактом можно выразить только видимое глазом, а кому нужен тщательный отчет о происходящем? Нужно что-то другое… Запечатленные мгновения, вырванные из жизни…
Я вернусь отсюда свободным человекам… Я не была им, пока не увидела то, что мы делаем здесь. Было страшно и одиноко. Вернусь и не пойду больше ни в один военный музей…
* * *
Не называю в книге подлинных имен. Одни просили о тайне исповеди, другие сами хотят забыть обо всем. Забыть о том, о чем писал Толстой – что «человек текучий». В нем есть все.
А в дневнике я сохранила фамилии. Может, когда-нибудь мои герои захотят, чтобы их узнали:
Сергей Амирханян, капитан; Владимир Агапов, старший лейтенант, начальник расчета; Татьяна Белозерских, служащая; Виктория Владимировна Барташевич, мать погибшего рядового Юрия Барташевича; Дмитрий Бабкин, рядовой, оператор-наводчик; Сайя Емельяновна Бабук, мать погибшей медсестры Светланы Бабук; Мария Терентьевна Бобкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова; Олимпиада Романовна Баукова, мать погибшего рядового Александра Баукова; Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша; Виктория Семеновна Валович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Валовича; Татьяна Гайсенко, медсестра; Вадим Глушков, старший лейтенант, переводчик; Геннадий Губанов, капитан, летчик; Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Галовнева; Анатолий Деветьяров, майор, пропагандист артполка; Денис Л., рядовой гранатометчик; Тамара Довнар, жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнара; Екатерина Никитична Платицына, мать погибшего майора Александра Платицина, Владимир Ероховец, рядовой гранатометчик; Софья Григорьевна Журавлева, мать погибшего рядового Александра Журавлева; Наталья Жестовская, медсестра; Мария Онуфриевна Зильфигарова, мать погибшего рядового Олега Зильфигарова; Вадим Иванов, старший лейтенант, командир саперного взвода; Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко; Евгений Красник, рядовой, мотострелок; Константин М., военный советник; Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты; Александр Костаков, рядовой, связист; Александр Кувшинников, старший лейтенант, командир минометного взвода; Надежда Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова; Марина Киселева, служащая; Тарас Кецмур, рядовой; Петр Курбанов, майор, командир горнострелковой роты; Василий Кубик, прапорщик; Олег Лелюшенко, рядовой, гранатометчик; Александр Лелетко, рядовой; Сергей Лоскутов, военный хирург; Валерий Лисиченок, сержант связист; Александр Лавров, рядовой; Вера Лысенко, служащая; Артур Метлицкий, рядовой, разведчик; Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона, и его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант; Лидия Ефимовна Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича; Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого; Владимир Михолап, рядовой, минометчик; Максим Медведев, рядовой авианаводчик; Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолетов; Олег Л., вертолетчик; Наталья Орлова, служащая; Галина Павлова, медсестра; Владимир Панкратов, рядовой, разведчик; Виталий Руженцев, рядовой, водитель; Сергей Русак, рядовой, танкист; Михаил Сиротин, старший лейтенант, летчик; Александр Сухоруков, старший лейтенант, командир горнострелкового взвода; Тимофей Смирнов, сержант артиллерист; Валентина Кирилловна Санько, мать погибшего рядового Валентина Санько; Нина Ивановна Сидельникова, мать; Владимир Симанин, подполковник; Томас М., сержант, командир взвода пехоты; Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко; Вадим Трубин, сержант, боец спецназа; Владимир Уланов, капитан; Тамара Фадеева, врач-бактериолог; Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика; Анна Хакас, служащая; Валерий Худяков, майор; Валентина Яковлева, прапорщик, начальник секретной части…